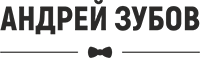кафедра ИСТОРИИ ПРОФЕССОРА ЗУБОВА
1917 год: пасхальный «подарок» российским демократам
Статья В.П. Булдакова
«Революция всегда и везде великое зло, а благо – это стабильность и направляемое властью развитие. Тем более зло – революция в России, обязательно становящаяся почти немедленно бунтом бессмысленным и беспощадным» - в этом нас пытается убедить ныне, в 95-ю годовщину революции 1917 года, администрация президента Путина. Между тем, далеко не каждая революция – бедствие. Без «Славной Революции» 17 века, окончательно восстановившей в Англии свергнутые Кромвелем монархию и парламентский строй, не было бы нынешней Великобритании, без Великой Американской революции 18 века – войны за независимость – не было бы Соединенных Штатов Америки, без революции Мейдзи 19 века Япония надолго осталась бы отсталой страной. Революции бывают разные и плоды их также различны. Все зависит от нескольких принципиальных моментов. Главное – уровень просвещенности большинства граждан, которые могут отличить корыстных демагогов от ответственных политиков, и нравственное здоровье людей, которые ни при каких призывах и дозволениях не пойдут грабить, убивать, предавать родину. В 1917 году русские люди пошли за большевиками демагогами на грабеж, убийство, предательство. Почему? В первую очередь из-за невежества. В 1917 г. только 45 процентов людей России старше 8 лет умели читать, большей частью по буквам. Писать умели ещё меньше. Именно эту массу увлекли за собой большевики. Сейчас в России интернетом пользуется столько людей, сколько 95 лет назад умело читать. Русский народ ныне далеко не невежественный, но противоядие от посулов политических демагогов для него и теперь небесполезно. Именно его и предлагает, анализируя первый «пасхальный» этап той русской революции крупнейший специалист по «Красной смуте» Владимир Прохорович Булдаков..
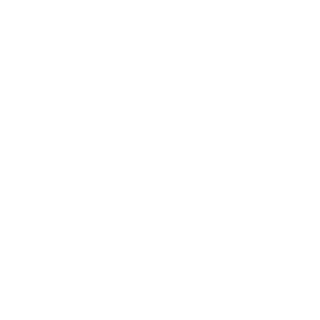
Андрей Зубов
доктор
исторических наук
исторических наук
Февральская революция, победившая за месяц до Пасхи, практически сразу же стала ассоциироваться с главным праздником христиан. Особенно заметно это было в Москве, где, не в пример «светскому» Петрограда, во всеобщем ликовании активное участие приняло духовенство. Ничего необычного – светлые ритуалы призваны заслонять болезненные воспоминания и мрачные предчувствия. Разумеется, не обошлось без перехлестов. Заговорили о «христианской миссии» революции, призванной к уничтожению всех тюрем (Figes O., Kolonitskii B. Interpreting the Russian Revolution: The Language and Symbols of 1917. New Haven and London, 1999. P. 55). Анархистские газеты поведали о случаях моментального «перевоспитания» освобожденных преступников. Появились лубочные открытки с изображением революционного рабочего и солдата на фоне красного пасхального яйца.
От «чуда» революции к «чудесам» двоевластия
Надежда отгоняет страхи. Но она же порождает невероятные ожидания, которые, в свою очередь, создают ситуацию непредсказуемости. Народ надеялся на «чудо» революции. Люди, пришедшие к власти, надеялись на «чудо» демократии.
Состав правительства был определен в думских кулуарах еще до переворота: его председателем стал князь Г.Е Львов, возглавлявший Земский и Городской союзы, призванные мобилизовать общественность на помощь фронту. Пост военного министра занял А.И. Гучков – октябрист, председатель Военно-промышленного комитета. На ключевой должности министра иностранных дел оказался П.Н. Милюков, лидер кадетской партии, разобравшей почти все оставшиеся портфели. Особняком стоял единственный социалист – эсер А.Ф. Керенский, занявший кресло министра юстиции.
Правительство было светским; к числу глубоко верующих можно отнести разве что князя Львова. Гучков был выходцем из предпринимателей-старообрядцев (о чем никак нельзя было догадаться по его поведению). Пост Обер-прокурора Св. Синода занял В.Н. Львов, умеренный либерал, склонный к обновленчеству. Позднее едва ли не всех министров запишут в масоны – наивные люди всегда склонны выдавать себя за жертв заговоров тайных сил. Ну а пока претензий к составу кабинета не было даже у петроградских большевиков.
Правительство считалось «временным» – его была призвана сменить власть, избранная на Всероссийском Учредительном собрании. Однако подготовка к пришествию «Хозяина Земли Русской» (именно так именовали конституанту), практически не велась – либералы опасались его излишней левизны. Была известна формула постреволюционной власти, предсказанная после 1905 года Л.Д. Троцким: «Без царя, а правительство рабочее». Подобные «издержки демократии» были ни к чему социалистам, вставшим во главе Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и рассчитывавших на плавный парламентский переход власти от «буржуазии» к «трудящимся».
Керенский стал министром, уверив Совет, что будет контролировать действия правительства изнутри и, прежде всего, освободит политических заключенных. Действительно, на свободе оказалось около 90 тыс. человек – правда, не столько политических, как уголовных.
Петроградский Совет возглавил Н.С. Чхеидзе, член Государственной думы, меньшевик. Его заместителями стали меньшевик М.И Скобелев и эсер А.Ф. Керенский. Совет не спешил утруждать себя законотворчеством – казалось, что важнее избавиться от «наследия царизма». Но кое-что пришлось сделать. Так, печально знаменитый Приказ № 1 сформулировал член Исполкома Совета Н.Д. Соколов под давлением возбужденных «защитников Отечества». Согласно этому поистине роковому документу войска Петроградского гарнизона ставились под контроль Совета, создавались так называемые солдатские комитеты, под контроль которых переходило оружие, а заодно и офицеры in corpore. Вне строя солдаты могли даже не отдавать честь командирам. Предполагалось, что эти новации затронут только столичный гарнизон. Увы, «приказ» стал известен на фронте: было опубликовано до 9 млн. экземпляров его текста.
Революционная «зараза» распространялась стремительно. 12 марта во время военного парада на Красной площади на красных знаменах уже появились лозунги «Мир без аннексий и контрибуций!» Благостный девиз европейского социалистического движения стал реальным инструментом разложения русской армии.
Считалось, что возникло двоевластие. На деле лидеры Петроградского Совета не собирались оспаривать власть у «буржуазии» – по их представлениям революция могла быть только «буржуазной». Но, в отличие от министров, настаивавших на войне до победного конца, социалисты требовали возвращения к status quo ante. Возникло абсурдное противостояние одинаково нереальных лозунгов внутри власти. К такому в России не привыкли.
Тем временем успокоения низов не наступало. Достаточно сказать, что в Царицыне солдаты 40-тысячного гарнизона учинили на Пасху разгром винных погребов. Сознание простых людей погружалось в пучину слухов.
Человека недаром именуют животным, запутавшимся в паутине им же созданных символов. Это особенно заметно в России, с ее непременной путаницей между реальным, воображаемым и символичным. Одни не видят ничего кроме заимствованных теорий, другие – кроме «злодеев». Но и те, и другие надеются на «своего» вождя.
Что сказал «сумасшедший»?
По иронии судьбы воинствующий атеист Ленин вернулся в Россию 3 апреля – в первый день светлой пасхальной седмицы. Вместе с тремя десятками социалистов-эмигрантов он добирался на родину в знаменитом «запломбированном вагоне» – разумеется, с согласия германского правительства. (На что не пойдешь ради мировой революции!). В Петрограде его ждала торжественная встреча – лидеры Совета наделись уговорить его работать над «углублением» демократии, а не революции. Именно будущие противники Ленина подготовили ему восторженный прием на Финляндском вокзале.
Трудно сказать, что заставляло людей ожидать среди ночи запаздывающего поезда. Возможно, сказывались «пасхально-революционные» восторги. Люди буквально ломились в здание вокзала, в «царском» зале которого угрюмый Чхеидзе пытался подсказать Ленину правила революционной «политкорректности». Главный большевик отмахнулся от него и вышел на площадь, где его поджидал автомобиль. Потом подоспел пресловутый броневик. Н.Н. Суханов, «полубольшевик», свидетельствовал, что путь к особняку бывшей любовницы свергнутого императора Матильды Кшесинской, превращенного в вертеп мировой революции, освещал прожектор, медленное движение сопровождали толпы рабочих и солдат с оркестром и знаменами. С броневика Ленин «служил литию» чуть ли не на каждом перекрестке. Суханов уверял, что триумф вышел «блестящим и даже довольно символическим» (Суханов Н.Н. Записки о революции. Т. 2. М., 1991. С. 7 – 8).
Редакторы большевистской «Правды» отреагировали более сдержанно: «Стоя на броневом автомобиле, тов. Ленин приветствовал революционный русский пролетариат и революционную русскую армию, сумевших не только Россию освободить от царского деспотизма, но и положивших начало социальной революции в международном масштабе». Именно эти идеи Ленин принялся разжевывать во дворце Кшесинской перед большевицкими функционерами. Его речь произвела впечатление разорвавшейся бомбы. В передаче Суханова (разумеется, со временем он постарался приукрасить событие) выглядело так:
«…Никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из всех логовищ поднялись все стихии, и дух всесокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений… стал носиться в зале Кшесинской над головами зачарованных учеников». Сомнения – враг демагога, их надо было рассеять. Впрочем, вряд ли полусонные слушатели тут же увлеклись ленинскими призывами.
На следующий день Ленин набросал свои знаменитые «Апрельские тезисы»: никаких уступок «дурным» социалистам, которые поддерживают завоевательные планы «империалистов»; лидеров Советов пора заменить «настоящими» революционерами. «Буржуазному» парламентаризму вообще не должно быть места – он должен уступить место «более высокой» форме демократии в лице «Республики Советов, рабочих, батрацких, крестьянских и солдатских депутатов». Ленин предлагал также централизацию банковского дела и постепенный переход к «общественному» контролю над производством и распределением продуктов. Под «шагами к социализму» понималась, в сущности, чудовищное огосударствление общественной жизни – разумеется, «в интересах трудящихся».
Излишне доказывать, что этот план был нереалистичен. К этому времени местные Советы входили в состав так называемых комитетов общественной безопасности. Эти «буржуазные» органы, составленные из десятков всевозможных организаций, подчас финансировали «пролетарские» Советы. Что касается ленинских надежд на «Советы батрацких депутатов», то они были – как показал последующий опыт внедрения комбедов – самой чудовищной химерой марксистского воображения. Зато лозунг конфискации всех помещичьих земель мог быть истолкован вполне «прагматично» – как призыв к «справедливому» растаскиванию барского добра.
Ленин мыслил категориями историцизма - «научно доказанного» будущего. Бывают времена, когда для взбаламученных масс утопии видятся единственно возможной реальностью. Британский историк Роберт Сервис сравнил значение 10 ленинских тезисов с 95 тезисами Лютера, которые величайший проповедник пришпилил к дверям Виттенбургского собора ровно за 400 лет до того (Service R. Lenin: A Political Life. Vol. 2. Worlds in Collision. Hampshire and London, 1991. P. 156). В обоих случаях делалась ставка на стихийную «демократию» масс.
Впрочем, 4 апреля, выступая в Таврическом дворце перед большевиками – участниками Всероссийского совещания Советов, Ленин произнес здравую фразу: «Мы не шарлатаны. Мы должны базировать только на сознательности масс». Ленин понимал, что в народе нет никакого представления о социализме – нужна просветительская работа. Но возможен был и другой вариант развития событий: переложение доктрины на язык разрушительных инстинктов озлобленных толп. Такое в истории случается постоянно: утопия становится запалом социального взрыва.
Как бы то ни было, в Таврическом дворце такие былые сподвижники Ленина, как выдающийся мыслитель А.А. Богданов заявляли, что его предложения – «бред сумасшедшего». Попытался одернуть Ленина и «отец русского марксизма» Г.В. Плеханов. 6 апреля ЦК РСДРП (б) отверг ленинские идеи. 7 апреля «Тезисы» были опубликованы в «Правде», однако на другой день против их «разлагающего влияния» там же выступил Л.Б. Каменев. Казалось, никто не хотел думать о следующем – мировом – этапе революции. К тому же, многие обыватели требовали ареста революционного «мессии». Лишь 14 апреля петроградская конференция большевиков одобрила тезисы, а 24 – 29 апреля их поддержала 6-я Всероссийская (Апрельская) конференция большевиков.
Последнее не было заслугой Ленина. Ему «помогли» события, истоки которых были запрятаны в прошлом.
Доктрины и толпы
Людям, которых современные mass media превратили в легковерных обывателей, бездумно скользящих по поверхности исторического бытия, нелегко объяснить, что апрельские события 1917 года были своего рода «прорвавшимся нарывом» всей европейской цивилизации. К началу ХХ в. невиданный подъем мирового индустриализма и прогресс коммуникаций происходил в условиях небывалого роста народонаселения. Резкое «омоложение» относительно богатеющей социальной среды само по себе становилось источником тотальной нестабильности. Этим пытались воспользоваться – кто в интересах «империализма», а кто «социализма», – но одинаково не сознавая последствий. «Политический класс» России, привыкший ориентироваться на западные образцы, словно потерял голову, забыв, что непросвещенный русский народ, как и во времена Пугачева, не ведал средних состояний между смирением и бунтом.
Задолго до революции германские специалисты были убеждены, что поражения произведут мощное деморализующее воздействие на «невежественные русские массы», о чем и информировали своих союзников (Державный военно-исторический архив Болгарии. Ф. 22. Оп. II. А.е. 229. Л. 129, 144). В апреле 1917 г. этот фактор продолжал действовать. Увы, пришедшие к власти российские интеллигенты думали лишь о возможности реализации собственных доктрин.
В кризисные времена ход событий «определяют» не столько озлобленные заговорщики, колько те упрямые политики, которые не учитывают общественного настроения. Догматизм Милюкова был известен давно. Теперь же отмечали, что министр хочет слишком многого: вспоминает даже «о русских правах на Царьград». Предсказывали, что деятели такого пошиба сами «устранят себя от власти» (Окунев Н.П. Дневник москвича. 1917 – 1920. Кн. 1. М., 1997. С. 28). Так и случилось.
Ленин развивал свой «успех» за счет неудач своих противников. 17 апреля в столице прошла грандиозная манифестация инвалидов. Калеки и раненые – безногие, безрукие, перебинтованные – двинулись к Таврическому дворцу. Одни передвигались самостоятельно, другие – на грузовых автомобилях и извозчиках. Плакаты взывали: «Наши раны требуют победы». 18 апреля Милюков заверил послов союзных держав, что Россия продолжит войну до победы. И в тот же день рабочие начали праздновать уже привычный Первомай (по новому стилю). О ноте Милюкова они пока не знали.
Последующие события представляли собой характерное для революции соединение утопии, психоза, провокации и анархии. Социалисты готовы были проглотить «буржуазную» пилюлю, но кадетский ЦК (тот же Милюков) призвал граждан выйти на улицы 20 апреля для поддержки правительства. В тот же день солдатам стали нашептывать, что милюковская нота «оказывает дружескую услугу не только империалистам стран Согласия, но и правительствам Германии и Австрии, помогая им душить развивающуюся борьбу немецкого пролетариата за мир…» (Революционное движение в апреле 1917 г. Апрельский кризис. М., 1958. С. 728). Пронесся слух, что идет распродажа «земель, леса и недр иностранным и своим капиталистам». «Милюков заварил такую кашу, которую ни ему, ни всему правительству не расхлебать…», – констатировали интеллигентные наблюдатели (Окунев Н.П. Указ. соч. С. 35).
Возбужденные толпы непременно пойдут за тем, кто пообещает им решить их проблемы простейшим способом – насилием и за счет других. Солдаты требовали отставки Милюкова и Гучкова и обещали прийти на помощь Совету с оружием в руках. Понятно, что этому их подучили большевики или другие леваки. Последовало хождение раздраженных толп к Мариинскому дворцу – резиденции правительства. Демонстрации шли в разнобой, агитаторы действовали с переменным успехом. Но страсти накалялись: появлялись плакаты «Долой Временное правительство!».
21 апреля с требованиями мира вышло на улицы столицы до 100 тыс. рабочих и солдат. Большевики утверждали, что около 3 часов дня на углу Невского проспекта и Екатерининского канала по толпе рабочих начали стрельбу гражданские лица, переодетые солдатами. Результат – трое убитых, двое раненых. Около 4 часов на Казанской улице также раздались выстрелы – то ли со стороны тротуара, то ли из окна близлежащего дома, были тяжело ранены двое солдат и одна женщина. На углу Итальянской улицы демонстрантов вновь обстреляли, рабочие ответили выстрелами. К вечеру стреляли на углу Садовой и Невского. Кто первым открывал огонь, выяснить не удалось. Не смогли даже подсчитать убитых и раненых.
«Известия Петроградского Совета» утверждали, что на Знаменской площади демонстрантам пытались перегородить дорогу грузовики с юнкерами. У Мойки на женщин-работниц напали студенты Военно-медицинской академии и Института путей сообщения, врезавшиеся в толпу на автомобилях. В других свидетельствах упоминались автомобили, с которых инвалиды, солдаты, офицеры, потрясали плакатами: «Ленина и кампанию обратно в Германию» (Революционное движение в апреле 1917 г. С. 727–750).
Кто же спровоцировал общественный раскол в пасхальную седмицу 1917 года? Две «материализованные» утопии заставили людей пойти «стенка на стенку». Иммунитет против демагогии отсутствовал у той и другой стороны. Одних прельщал «крест на Святой Софии» в Константинополе – мечта агностика Милюкова, других увлекли самозванцы, обещавшие «землю и волю». Да и как могли реагировать на противоречивые лозунги невежественные люди, враз избавленные революцией практически от всех былых ограничений? Нетерпеливые массы сбивались в толпы, жаждущие «своих» вожаков.
Впрочем, «пасхальные» события 1917 года отнюдь не означали, что эскалация вражды приняла необратимый характер. Демонстранты послушно последовали указанию Совета о запрещении на два дня уличных шествий (скорее всего, они прекратились бы сами собой). «Непримиримые» лидеры Совета обнаружили неожиданную сговорчивость, а самый пылкий их лидер И.Г. Церетели скоро стал министром в коалиционном правительстве. Но нетерпеливым массам нужен был не он, а «вождь», готовый обещать все и сразу, а главное – указывающий на «врага».
Камо грядеши?
В свой 47-й день рождения Ленин мог радоваться – он смог «поднять массы». Но устойчивой ненависти низов к «виновникам» продолжения войны пока не сложилось. Большинство телеграмм с мест в адрес Временного правительства содержало пожелание дружной работы правительства с Петроградским Советом. Формирование коалиционного правительства вызвало немалые восторги. Кое-кто требовал арестовать Ленина (См.: ГА РФ. Ф. 1778. Оп. 1. Д. 97, 98, 99, 100, 102). Впрочем, резолюции, как водится, сочиняли люди образованные, а не простые люди, от лица которых они выступали. Как бы то ни было, «война войне» была объявлена.
Утопии мирных времен благостны и безвредны. Но в турбулентной социальной среде они превращаются в оружие разрушительной силы. Люди, ввергнутые в войну, перенесшие нешуточные страдания за вдруг отрекшегося царя и отвергнутое «империалистическое» отечество, жаждали расправы над «виновниками» своих бедствий.
В России непременно находятся интеллигентные люди, готовые ради избавления от «неразумной» власти на союз хоть с чертом. Подобно Ленину, они легко находят для этого соответствующие аргументы. Простой народ действует по той же схеме, но без «теорий», и в трудных обстоятельствах всегда готов следовать за новым Пугачевым.
Нельзя сказать, что в пасхальные дни 1917 года большевизм «показал себя». Это слабая российская демократия продемонстрировала свою беспомощность перед лицом разбушевавшейся невежественной толпы, алчной и безответственной одновременно. Возможно, это главный урок событий 95-летней давности.
ВЛАДИМИР БУЛДАКОВ
Опубликовано в Новой Газете (№ 94 от 22 августа 2012)
От «чуда» революции к «чудесам» двоевластия
Надежда отгоняет страхи. Но она же порождает невероятные ожидания, которые, в свою очередь, создают ситуацию непредсказуемости. Народ надеялся на «чудо» революции. Люди, пришедшие к власти, надеялись на «чудо» демократии.
Состав правительства был определен в думских кулуарах еще до переворота: его председателем стал князь Г.Е Львов, возглавлявший Земский и Городской союзы, призванные мобилизовать общественность на помощь фронту. Пост военного министра занял А.И. Гучков – октябрист, председатель Военно-промышленного комитета. На ключевой должности министра иностранных дел оказался П.Н. Милюков, лидер кадетской партии, разобравшей почти все оставшиеся портфели. Особняком стоял единственный социалист – эсер А.Ф. Керенский, занявший кресло министра юстиции.
Правительство было светским; к числу глубоко верующих можно отнести разве что князя Львова. Гучков был выходцем из предпринимателей-старообрядцев (о чем никак нельзя было догадаться по его поведению). Пост Обер-прокурора Св. Синода занял В.Н. Львов, умеренный либерал, склонный к обновленчеству. Позднее едва ли не всех министров запишут в масоны – наивные люди всегда склонны выдавать себя за жертв заговоров тайных сил. Ну а пока претензий к составу кабинета не было даже у петроградских большевиков.
Правительство считалось «временным» – его была призвана сменить власть, избранная на Всероссийском Учредительном собрании. Однако подготовка к пришествию «Хозяина Земли Русской» (именно так именовали конституанту), практически не велась – либералы опасались его излишней левизны. Была известна формула постреволюционной власти, предсказанная после 1905 года Л.Д. Троцким: «Без царя, а правительство рабочее». Подобные «издержки демократии» были ни к чему социалистам, вставшим во главе Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и рассчитывавших на плавный парламентский переход власти от «буржуазии» к «трудящимся».
Керенский стал министром, уверив Совет, что будет контролировать действия правительства изнутри и, прежде всего, освободит политических заключенных. Действительно, на свободе оказалось около 90 тыс. человек – правда, не столько политических, как уголовных.
Петроградский Совет возглавил Н.С. Чхеидзе, член Государственной думы, меньшевик. Его заместителями стали меньшевик М.И Скобелев и эсер А.Ф. Керенский. Совет не спешил утруждать себя законотворчеством – казалось, что важнее избавиться от «наследия царизма». Но кое-что пришлось сделать. Так, печально знаменитый Приказ № 1 сформулировал член Исполкома Совета Н.Д. Соколов под давлением возбужденных «защитников Отечества». Согласно этому поистине роковому документу войска Петроградского гарнизона ставились под контроль Совета, создавались так называемые солдатские комитеты, под контроль которых переходило оружие, а заодно и офицеры in corpore. Вне строя солдаты могли даже не отдавать честь командирам. Предполагалось, что эти новации затронут только столичный гарнизон. Увы, «приказ» стал известен на фронте: было опубликовано до 9 млн. экземпляров его текста.
Революционная «зараза» распространялась стремительно. 12 марта во время военного парада на Красной площади на красных знаменах уже появились лозунги «Мир без аннексий и контрибуций!» Благостный девиз европейского социалистического движения стал реальным инструментом разложения русской армии.
Считалось, что возникло двоевластие. На деле лидеры Петроградского Совета не собирались оспаривать власть у «буржуазии» – по их представлениям революция могла быть только «буржуазной». Но, в отличие от министров, настаивавших на войне до победного конца, социалисты требовали возвращения к status quo ante. Возникло абсурдное противостояние одинаково нереальных лозунгов внутри власти. К такому в России не привыкли.
Тем временем успокоения низов не наступало. Достаточно сказать, что в Царицыне солдаты 40-тысячного гарнизона учинили на Пасху разгром винных погребов. Сознание простых людей погружалось в пучину слухов.
Человека недаром именуют животным, запутавшимся в паутине им же созданных символов. Это особенно заметно в России, с ее непременной путаницей между реальным, воображаемым и символичным. Одни не видят ничего кроме заимствованных теорий, другие – кроме «злодеев». Но и те, и другие надеются на «своего» вождя.
Что сказал «сумасшедший»?
По иронии судьбы воинствующий атеист Ленин вернулся в Россию 3 апреля – в первый день светлой пасхальной седмицы. Вместе с тремя десятками социалистов-эмигрантов он добирался на родину в знаменитом «запломбированном вагоне» – разумеется, с согласия германского правительства. (На что не пойдешь ради мировой революции!). В Петрограде его ждала торжественная встреча – лидеры Совета наделись уговорить его работать над «углублением» демократии, а не революции. Именно будущие противники Ленина подготовили ему восторженный прием на Финляндском вокзале.
Трудно сказать, что заставляло людей ожидать среди ночи запаздывающего поезда. Возможно, сказывались «пасхально-революционные» восторги. Люди буквально ломились в здание вокзала, в «царском» зале которого угрюмый Чхеидзе пытался подсказать Ленину правила революционной «политкорректности». Главный большевик отмахнулся от него и вышел на площадь, где его поджидал автомобиль. Потом подоспел пресловутый броневик. Н.Н. Суханов, «полубольшевик», свидетельствовал, что путь к особняку бывшей любовницы свергнутого императора Матильды Кшесинской, превращенного в вертеп мировой революции, освещал прожектор, медленное движение сопровождали толпы рабочих и солдат с оркестром и знаменами. С броневика Ленин «служил литию» чуть ли не на каждом перекрестке. Суханов уверял, что триумф вышел «блестящим и даже довольно символическим» (Суханов Н.Н. Записки о революции. Т. 2. М., 1991. С. 7 – 8).
Редакторы большевистской «Правды» отреагировали более сдержанно: «Стоя на броневом автомобиле, тов. Ленин приветствовал революционный русский пролетариат и революционную русскую армию, сумевших не только Россию освободить от царского деспотизма, но и положивших начало социальной революции в международном масштабе». Именно эти идеи Ленин принялся разжевывать во дворце Кшесинской перед большевицкими функционерами. Его речь произвела впечатление разорвавшейся бомбы. В передаче Суханова (разумеется, со временем он постарался приукрасить событие) выглядело так:
«…Никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из всех логовищ поднялись все стихии, и дух всесокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений… стал носиться в зале Кшесинской над головами зачарованных учеников». Сомнения – враг демагога, их надо было рассеять. Впрочем, вряд ли полусонные слушатели тут же увлеклись ленинскими призывами.
На следующий день Ленин набросал свои знаменитые «Апрельские тезисы»: никаких уступок «дурным» социалистам, которые поддерживают завоевательные планы «империалистов»; лидеров Советов пора заменить «настоящими» революционерами. «Буржуазному» парламентаризму вообще не должно быть места – он должен уступить место «более высокой» форме демократии в лице «Республики Советов, рабочих, батрацких, крестьянских и солдатских депутатов». Ленин предлагал также централизацию банковского дела и постепенный переход к «общественному» контролю над производством и распределением продуктов. Под «шагами к социализму» понималась, в сущности, чудовищное огосударствление общественной жизни – разумеется, «в интересах трудящихся».
Излишне доказывать, что этот план был нереалистичен. К этому времени местные Советы входили в состав так называемых комитетов общественной безопасности. Эти «буржуазные» органы, составленные из десятков всевозможных организаций, подчас финансировали «пролетарские» Советы. Что касается ленинских надежд на «Советы батрацких депутатов», то они были – как показал последующий опыт внедрения комбедов – самой чудовищной химерой марксистского воображения. Зато лозунг конфискации всех помещичьих земель мог быть истолкован вполне «прагматично» – как призыв к «справедливому» растаскиванию барского добра.
Ленин мыслил категориями историцизма - «научно доказанного» будущего. Бывают времена, когда для взбаламученных масс утопии видятся единственно возможной реальностью. Британский историк Роберт Сервис сравнил значение 10 ленинских тезисов с 95 тезисами Лютера, которые величайший проповедник пришпилил к дверям Виттенбургского собора ровно за 400 лет до того (Service R. Lenin: A Political Life. Vol. 2. Worlds in Collision. Hampshire and London, 1991. P. 156). В обоих случаях делалась ставка на стихийную «демократию» масс.
Впрочем, 4 апреля, выступая в Таврическом дворце перед большевиками – участниками Всероссийского совещания Советов, Ленин произнес здравую фразу: «Мы не шарлатаны. Мы должны базировать только на сознательности масс». Ленин понимал, что в народе нет никакого представления о социализме – нужна просветительская работа. Но возможен был и другой вариант развития событий: переложение доктрины на язык разрушительных инстинктов озлобленных толп. Такое в истории случается постоянно: утопия становится запалом социального взрыва.
Как бы то ни было, в Таврическом дворце такие былые сподвижники Ленина, как выдающийся мыслитель А.А. Богданов заявляли, что его предложения – «бред сумасшедшего». Попытался одернуть Ленина и «отец русского марксизма» Г.В. Плеханов. 6 апреля ЦК РСДРП (б) отверг ленинские идеи. 7 апреля «Тезисы» были опубликованы в «Правде», однако на другой день против их «разлагающего влияния» там же выступил Л.Б. Каменев. Казалось, никто не хотел думать о следующем – мировом – этапе революции. К тому же, многие обыватели требовали ареста революционного «мессии». Лишь 14 апреля петроградская конференция большевиков одобрила тезисы, а 24 – 29 апреля их поддержала 6-я Всероссийская (Апрельская) конференция большевиков.
Последнее не было заслугой Ленина. Ему «помогли» события, истоки которых были запрятаны в прошлом.
Доктрины и толпы
Людям, которых современные mass media превратили в легковерных обывателей, бездумно скользящих по поверхности исторического бытия, нелегко объяснить, что апрельские события 1917 года были своего рода «прорвавшимся нарывом» всей европейской цивилизации. К началу ХХ в. невиданный подъем мирового индустриализма и прогресс коммуникаций происходил в условиях небывалого роста народонаселения. Резкое «омоложение» относительно богатеющей социальной среды само по себе становилось источником тотальной нестабильности. Этим пытались воспользоваться – кто в интересах «империализма», а кто «социализма», – но одинаково не сознавая последствий. «Политический класс» России, привыкший ориентироваться на западные образцы, словно потерял голову, забыв, что непросвещенный русский народ, как и во времена Пугачева, не ведал средних состояний между смирением и бунтом.
Задолго до революции германские специалисты были убеждены, что поражения произведут мощное деморализующее воздействие на «невежественные русские массы», о чем и информировали своих союзников (Державный военно-исторический архив Болгарии. Ф. 22. Оп. II. А.е. 229. Л. 129, 144). В апреле 1917 г. этот фактор продолжал действовать. Увы, пришедшие к власти российские интеллигенты думали лишь о возможности реализации собственных доктрин.
В кризисные времена ход событий «определяют» не столько озлобленные заговорщики, колько те упрямые политики, которые не учитывают общественного настроения. Догматизм Милюкова был известен давно. Теперь же отмечали, что министр хочет слишком многого: вспоминает даже «о русских правах на Царьград». Предсказывали, что деятели такого пошиба сами «устранят себя от власти» (Окунев Н.П. Дневник москвича. 1917 – 1920. Кн. 1. М., 1997. С. 28). Так и случилось.
Ленин развивал свой «успех» за счет неудач своих противников. 17 апреля в столице прошла грандиозная манифестация инвалидов. Калеки и раненые – безногие, безрукие, перебинтованные – двинулись к Таврическому дворцу. Одни передвигались самостоятельно, другие – на грузовых автомобилях и извозчиках. Плакаты взывали: «Наши раны требуют победы». 18 апреля Милюков заверил послов союзных держав, что Россия продолжит войну до победы. И в тот же день рабочие начали праздновать уже привычный Первомай (по новому стилю). О ноте Милюкова они пока не знали.
Последующие события представляли собой характерное для революции соединение утопии, психоза, провокации и анархии. Социалисты готовы были проглотить «буржуазную» пилюлю, но кадетский ЦК (тот же Милюков) призвал граждан выйти на улицы 20 апреля для поддержки правительства. В тот же день солдатам стали нашептывать, что милюковская нота «оказывает дружескую услугу не только империалистам стран Согласия, но и правительствам Германии и Австрии, помогая им душить развивающуюся борьбу немецкого пролетариата за мир…» (Революционное движение в апреле 1917 г. Апрельский кризис. М., 1958. С. 728). Пронесся слух, что идет распродажа «земель, леса и недр иностранным и своим капиталистам». «Милюков заварил такую кашу, которую ни ему, ни всему правительству не расхлебать…», – констатировали интеллигентные наблюдатели (Окунев Н.П. Указ. соч. С. 35).
Возбужденные толпы непременно пойдут за тем, кто пообещает им решить их проблемы простейшим способом – насилием и за счет других. Солдаты требовали отставки Милюкова и Гучкова и обещали прийти на помощь Совету с оружием в руках. Понятно, что этому их подучили большевики или другие леваки. Последовало хождение раздраженных толп к Мариинскому дворцу – резиденции правительства. Демонстрации шли в разнобой, агитаторы действовали с переменным успехом. Но страсти накалялись: появлялись плакаты «Долой Временное правительство!».
21 апреля с требованиями мира вышло на улицы столицы до 100 тыс. рабочих и солдат. Большевики утверждали, что около 3 часов дня на углу Невского проспекта и Екатерининского канала по толпе рабочих начали стрельбу гражданские лица, переодетые солдатами. Результат – трое убитых, двое раненых. Около 4 часов на Казанской улице также раздались выстрелы – то ли со стороны тротуара, то ли из окна близлежащего дома, были тяжело ранены двое солдат и одна женщина. На углу Итальянской улицы демонстрантов вновь обстреляли, рабочие ответили выстрелами. К вечеру стреляли на углу Садовой и Невского. Кто первым открывал огонь, выяснить не удалось. Не смогли даже подсчитать убитых и раненых.
«Известия Петроградского Совета» утверждали, что на Знаменской площади демонстрантам пытались перегородить дорогу грузовики с юнкерами. У Мойки на женщин-работниц напали студенты Военно-медицинской академии и Института путей сообщения, врезавшиеся в толпу на автомобилях. В других свидетельствах упоминались автомобили, с которых инвалиды, солдаты, офицеры, потрясали плакатами: «Ленина и кампанию обратно в Германию» (Революционное движение в апреле 1917 г. С. 727–750).
Кто же спровоцировал общественный раскол в пасхальную седмицу 1917 года? Две «материализованные» утопии заставили людей пойти «стенка на стенку». Иммунитет против демагогии отсутствовал у той и другой стороны. Одних прельщал «крест на Святой Софии» в Константинополе – мечта агностика Милюкова, других увлекли самозванцы, обещавшие «землю и волю». Да и как могли реагировать на противоречивые лозунги невежественные люди, враз избавленные революцией практически от всех былых ограничений? Нетерпеливые массы сбивались в толпы, жаждущие «своих» вожаков.
Впрочем, «пасхальные» события 1917 года отнюдь не означали, что эскалация вражды приняла необратимый характер. Демонстранты послушно последовали указанию Совета о запрещении на два дня уличных шествий (скорее всего, они прекратились бы сами собой). «Непримиримые» лидеры Совета обнаружили неожиданную сговорчивость, а самый пылкий их лидер И.Г. Церетели скоро стал министром в коалиционном правительстве. Но нетерпеливым массам нужен был не он, а «вождь», готовый обещать все и сразу, а главное – указывающий на «врага».
Камо грядеши?
В свой 47-й день рождения Ленин мог радоваться – он смог «поднять массы». Но устойчивой ненависти низов к «виновникам» продолжения войны пока не сложилось. Большинство телеграмм с мест в адрес Временного правительства содержало пожелание дружной работы правительства с Петроградским Советом. Формирование коалиционного правительства вызвало немалые восторги. Кое-кто требовал арестовать Ленина (См.: ГА РФ. Ф. 1778. Оп. 1. Д. 97, 98, 99, 100, 102). Впрочем, резолюции, как водится, сочиняли люди образованные, а не простые люди, от лица которых они выступали. Как бы то ни было, «война войне» была объявлена.
Утопии мирных времен благостны и безвредны. Но в турбулентной социальной среде они превращаются в оружие разрушительной силы. Люди, ввергнутые в войну, перенесшие нешуточные страдания за вдруг отрекшегося царя и отвергнутое «империалистическое» отечество, жаждали расправы над «виновниками» своих бедствий.
В России непременно находятся интеллигентные люди, готовые ради избавления от «неразумной» власти на союз хоть с чертом. Подобно Ленину, они легко находят для этого соответствующие аргументы. Простой народ действует по той же схеме, но без «теорий», и в трудных обстоятельствах всегда готов следовать за новым Пугачевым.
Нельзя сказать, что в пасхальные дни 1917 года большевизм «показал себя». Это слабая российская демократия продемонстрировала свою беспомощность перед лицом разбушевавшейся невежественной толпы, алчной и безответственной одновременно. Возможно, это главный урок событий 95-летней давности.
ВЛАДИМИР БУЛДАКОВ
Опубликовано в Новой Газете (№ 94 от 22 августа 2012)
Об авторе
Владимир Прохорович Булдаков, 1944 г.р., доктор исторических наук, закончил МГУ в 1967 г. С 1976 г. работает в Институте российской истории РАН. Сфера научных интересов: кризисные ситуации в истории России, массовая психология, этнические конфликты, политическое лидерство. Автор около 350 работ различного жанра. Наиболее крупные исследования: «Красная смута: природа и последствия революционного насилия» (2010, РОССПЭН) и «Хаос и этнос: этнические конфликты в России, 1917 – 1918 гг.» (2010, Новый хронограф).
Владимир Прохорович Булдаков, 1944 г.р., доктор исторических наук, закончил МГУ в 1967 г. С 1976 г. работает в Институте российской истории РАН. Сфера научных интересов: кризисные ситуации в истории России, массовая психология, этнические конфликты, политическое лидерство. Автор около 350 работ различного жанра. Наиболее крупные исследования: «Красная смута: природа и последствия революционного насилия» (2010, РОССПЭН) и «Хаос и этнос: этнические конфликты в России, 1917 – 1918 гг.» (2010, Новый хронограф).