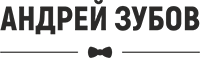кафедра ИСТОРИИ ПРОФЕССОРА ЗУБОВА
Провинциальный интеллигент в Февральской революции
Статья А.В. Посадского
Та страшная революция 1917-22 годов не похожа на нынешние события – совсем иной народ, другой исторический опыт, иные стремления и обольщения. Но, так же как и тогда, 95 лет назад, во вдруг ускорившемся течении жизни важно не потеряться, сохранить себя, свою совесть, соответствие слов и поступков нравственной правде. В 1917 году за плечами не было ещё опыта национальной катастрофы. Катастрофа наступила позже. Множество личных выборов, никогда до конца не понятное, но столь важное для будущей жизни общества соотношение между жертвенностью и корыстью, эгоистическим равнодушием к чужому горю и готовностью отдавать себя другим тогда оказалось, в конечном итоге, не в пользу свободы, мира, безопасной и благоустроенной жизни. А о том, как совершались сами эти выборы провинциальными интеллигентами старой России в короткий, но судьбоносный промежуток жизни от февраля к октябрю 1917 г., рассказывает знаток того времени, саратовский профессор-историк Антон Посадский.
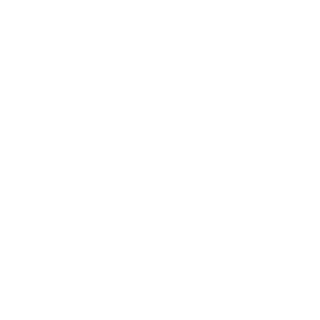
Андрей Зубов
доктор
исторических наук
исторических наук
Февральская революция никогда не выглядела «батально»: ни взятия Бастилии, ни штурма Тюильри или Зимнего. Между тем, по своим последствиям она грандиозна. Сегодня для многих день отречения государя – это точка отсчета, начало смуты, состоявшийся крах тысячелетней державы. Тем значимее вспомнить, с каким настроем встречала страна эти дни. Свидетельств об этом много, но в большинстве случаев они относятся к столичным, городским и политически активным кругам. В энциклопедиях про многих известных деятелей культуры писались в свое время стереотипные фразы: «восторженно встретил Февральскую революцию… Октябрьской революции не принял…»
Впоследствии о февральских днях будет написано немало горьких слов. Арсению Несмелову принадлежит стихотворение «Этот день», в котором не найти радужных интонаций. Выражение «великая и бескровная» - либеральное клише – станет для военных, для белого лагеря издевательской меткой, обозначающей верхоглядство, легковесность и восторженность хозяев первых дней и недель революции.
Может быть, главной силой революции было подспудное ощущение, что прежний порядок исчерпал себя, что будет и должно быть что-то иное. В то же время революция, о которой почти открыто толковали в думских и военных, и в целом образованных, кругах, - стала неожиданной. И отнюдь не только для аполитичных провинциалов. Нет, для самих вождей и устроителей. Действительно, эмигрант Ленин в январе 1917 года рассуждал о внуках, которым может посчастливиться увидеть революцию, Керенский с друзьями пришли к выводу о невозможности революции уже на фоне начавшихся в Петрограде волнений. На это обращает внимание задиристый, умный и наблюдательный Иван Солоневич. По его словам, «делала революцию вся второсортная русская интеллигенция последних ста лет. Именно второсортная. Ни Федор Достоевский, ни Дмитрий Менделеев, ни Иван Павлов, никто из русских людей первого сорта - при всем их критическом отношении к отдельным частям русской жизни - революции не хотели и революции не делали. Революцию делали писатели второго сорта - вроде Горького, историки третьего сорта — вроде Милюкова, адвокаты четвертого сорта - вроде А. Керенского. Делала революцию почти безымянная масса русской гуманитарной профессуры, которая с сотен университетских и прочих кафедр вдалбливала русскому сознанию мысль о том, что с научной точки зрения революция неизбежна, революция желательна, революция спасительна».
Правые напишут о том, что революция зрела в великосветских салонах. Много сказано об отчуждении образованных кругов от власти и императорской семьи. Респектабельная семья прячет от друзей свое близкое знакомство с фрейлиной государыни, ее едва ли ни с черного хода принимают, - вполне обычный сюжет. Распутин, шпионаж, Протопопов, «темные силы» – все это признаки возбужденного общественного сознания последних месяцев перед революцией.
«Боль, страх и голод, которые мы переживаем, мешают нам видеть мелочи повседневной жизни, из которых и строится подлинная жизнь. А сколько бы поучительного и гораздо более убедительного, чем самая сильная статья, дал бы простой разбор мелких фактов, взятых из самой исподи жизни», - так писал в «Очерках красной деревни» одаренный литератор и тертый жизнью человек - И.С. Соколов-Микитов. В жизни той революционной эпохи, в самом деле, часто соседствовало трагическое, смешное, парадоксальное.
Картинок столичных событий революционных дней и пореволюционных недель много: существует солидный корпус дневников и воспоминаний, есть впечатляющая и скрупулезная солженицынская реконструкция, работа Георгия Каткова... Применительно к провинции – ситуация иная, особенно если с губернского уровня спуститься на уровень уезда и ниже – в слободы, села, заштатные городки, где тоже были школы, больницы, свой круг интеллигенции, священники, кооператоры, помещики.
Предвоенные годы и тем более война меняли облик многих профессиональных корпораций. Достаточно вспомнить о том, насколько изменился офицерский корпус. Остатки кадрового офицерства растворились во многих десятках тысяч офицеров военного времени. Практически вся образованная молодежь надела погоны. Многое менялось и в корпусе провинциальной интеллигенции. Он пополнялся выучившимися крестьянами, стремительно росло число учителей, агрономов, техников и гидротехников, землемеров, инженеров. Мощно развивалась кооперация, и кооператор становился влиятельной фигурой в провинции. Быстрый рост образования (в повестке дня стоял вопрос об обязательном всеобщем образовании) придавал новые черты деревне. Среди интеллигентов «из мужиков» – например, А.Ф. Аладьин и С.В. Аникин – депутаты Первой государственной думы от поволжских губерний. Так что уездный интеллигент в предреволюционные годы – разный. Это и лишившийся земли или беднеющий помещик, вынужденный служить или работать. Это народные учителя из недавних крестьян, это врачи, стремительно росший в годы столыпинской реформы круг специалистов. Это священство и причт. А в церковной среде многим было ясно, что церковная жизнь чрезвычайно отягощена и государственным вмешательством, и угасанием рвения немалого числа пастырей. Это возбуждало силы ревностных, возникали, например, «кружки ревнителей православия».
Кроме того, за плечами был 1905 год. Многие интеллигенты тогда получили опыт политической и нелегальной деятельности. В результате кто-то отошел от слишком горячей политики, кто-то был испуган, кто-то, напротив, укрепился в политических пристрастиях, как правило, народнического толка.
Земская структура в предреволюционные годы уже не справлялась с разросшимся хозяйством. Интересный факт: журнал «Волостное земство» начал выходить с января 1917 года, хотя никакого волостного земства не существовало, только долгие разговоры о нем. Лишь Временное правительство введет это учреждение, выборы пройдут в августе-сентябре, и этим земствам достанется действовать в условиях начинающейся гражданской войны. Но уже ясно было, что прежняя структура самоуправления не выдерживает быстрого усложнения жизни. Война вызвала к жизни новые самодеятельные организации, всякого рода комитеты и советы. Министерство внутренних дел смотрело на эти образования с подозрением, сомневаясь в их благонадежности. В целом, история земств имела не только сильные, но и теневые стороны. Любознательный читатель может обратиться к работам Е. Чернышевой, которые посвящены историографии деятельности земств. Например, правые обращали внимание на бюрократизацию земской деятельности и другие язвы, которые не принято было замечать в лагере либеральном. Священники горько писали о странном положении дел: церковно-приходская школа живет на пожертвования и влачит спартанское, а то и просто жалкое существование в небогатом приходе. А рядом строится земская «школа-дворец», на правительственные субсидии, а тамошние учителя нередко бравируют безбожием и оппозиционностью.
Но в подавляющем большинстве случаев уездный интеллигент был, прежде всего, работником. Очень добросовестным и самоотверженным. Война добавила нагрузки, многих мужчин призвали. Появлялись в возрастающем количестве раненые, беженцы, организовывались местные военно-промышленные комитеты… Все эти заботы тоже ложись на плечи образованного уездного общества.
Таким образом, уездная интеллигенция находилась в очень напряженном поле: между слухами, модами, будирующими статьями, идущими из столиц и крупных городов, и мужицкими надеждами на землю, на «прирезку», крестьянскими интерпретациями происходящего на фронте и в городах. Уездные интеллигенты и сами нередко были политически ориентированы, как правило, в народническом стиле.
Жандармские документы фиксировали слухи в образованных кругах про «немку - императрицу» и Распутина. Эти слухи порождали своего рода антимонархический или даже исключительно антиниколаевский патриотизм. Широкое убеждение в том, что правит Россией глупость или измена (знаменитый рефрен из провокационного выступления кадетского лидера П.Н. Милюкова в Государственной думе 1 ноября 1916 г.; сам он всю жизнь гордился, что подал «штормовой сигнал революции») определяло настроения на местах.
Неясные ожидания и внутренняя готовность к благотворным, как многим казалось, переменам прорвались после известий об отречении императора. Если в столицах и губернских центрах первые недели после революции еще можно было продолжать жить привычным бытом и активно участвовать в забурлившей общественной жизни, то в уездах все было «ближе к земле» и прозаичнее.
Очень ранняя и точная реакция – у М.М. Пришвина. Он записывает в дневнике уже 1 марта: «Жуткий вопрос, что делается в остальной России - никто этого не знает. И кто-то говорит: «А радость какая! будто Пасха»».
Действительно, что же там, в «остальной России»?
Для глубинки революция пришла через телеграф или газету. В 1920-е годы и позднее, специальные большевицкие комиссии, так называемые истпарты, собирали воспоминания местных деятелей революции. Нередко это были самые простые, едва грамотные «трудящиеся», которых революция призвала к активной политической жизни. Так вот, стереотипная картина в воспоминаниях о Феврале такова. Мальчишки бегут с ближайшей станции или приезжает почтальон: в Питере царя «скинули». – «Врёшь!» Так вон – на станции студенты жандармов разоружают. «Правда!!»
В Весьегонске Тверской губернии объявление о новой власти сделал недавний исправник. В зауральском Кургане перед железнодорожными рабочими выступил… жандармский офицер. И это было продиктовано самыми трезвыми соображениями: лучше объявить о том, что уже стало известно из столиц, нежели ждать низовых интерпретаций, которые неизбежно обросли бы, как выражались в полицейской переписке в царское время, «нелепыми слухами».
Вот как дело было в Кирсанове. Это тихий уездный город Тамбовской губернии. Известность ему придадут последующие события, - Кирсановский уезд станет наиболее активным в знаменитой «Антоновщине». Здешняя женская гимназия являлась островком просвещения, - как это тогда понималось в интеллигентной среде. Читались книги, либеральные учителя вольно трактовали вопросы программы, так что про «темноту, бесправие и угнетение» старшеклассницы знали всё, и народнические настроения были крепки. Большинство гимназисток собиралось становиться народными учительницами. Февральская революция среди учителей и учениц встретила самый горячий отклик. Все с энтузиазмом украсились красными бантами, с ними и на занятия ходили. Ученицы 7-го класса писали болевшему знакомому: «Поздравляем Вас с великими днями обновления России!!! Всеобщее настроение и восторг отразились и на Кирсанове и на нашей маленькой гимназии. Мы вместе с другими гражданами России празднуем эти великие дни и не можем не поделиться своей радостью с Вами. Пусть духовное возрождение России послужит стимулом к Вашему выздоровлению. Да здравствует свобода! Да здравствует освобожденная Россия! (7/III-1917 г.)». Этот восторженный настрой сохранялся до конца учебного года. В мае состоялась демонстрация. При этом купеческий Кирсанов в большинстве своем не испытывал восторга от «освобождения». Похоже, гимназистки с несколькими либеральными учителями действительно чувствовали себя авангардом новой жизни.
В первые же дни после отречения императора во многих городах состоялись винные погромы. Например, в Ельце, в Липецке. Эта стихия проявит себя масштабнее к концу 1917 года, уже после октябрьского переворота, когда волна пьяных погромов захлестнет страну. Ленин не забудет отнести их на счет «контрреволюции». Однако и первые дни революции были омрачены не только кровью, но и спиртными ароматами и дикарской радостью дорвавшихся.
Мемуаристами отмечены сладостные, до совершеннейшей наивности и нелепости, представления крестьян о наступившей свободе. «Городов не будет, - всю землю мужикам отдадут», настала жизнь «на своей воле», многие освоили клише про «старый режим» и «эксплуатацию» и щеголяли ими к месту и не к месту. Мысли о мужицком рае кружили крестьянам головы. Местных дворян, учителей, священников нередко показательно третировали как нахлебников и тунеядцев, более не нужных. Голос большого мира в революционные месяцы был голосом приезжих, чужих. Это могли быть присланные агитаторы или уполномоченные, либо свои же односельчане, побывавшие за родной околицей, фронтовики, прежде всего. Презрительное отношение к местным «белоручкам» - интеллигентам не мешало, затаив дыхание, слушать приезжих революционеров - таких же учителей, но явившихся из центра (хотя бы и уездного!) Однако по прошествии первых недель, авторитет местных интеллигентов часто восстанавливался. Ситуация с властью становилась все менее понятной, множились слухи, и крестьяне потянулись за разъяснениями по знакомым адресам: учитель, агроном, священник.
Выразительные зарисовки общественной жизни и динамики настроений прихожан Балашовского уезда Саратовской губернии (уезд – крупнейший в стране, помещичий, активный, с богатыми традициями крестьянского движения, как антипомещичьего, так и столыпинского, с мощным эсеровским влиянием) дал в своем отчете за 1917 год священник Василий Виноградов, миссионер Братства Святого Креста. Первым делом, инициативой псаломщика Большой Шатневки Кроткова, в округе упразднялась должность миссионера. «Беда в том», – резюмировал священник, – «что ложно прогрессивные пастыри распропагандировали диаконов и псаломщиков, особенно последних, «демократизацией» и близоруким равенством без необходимости исполнения служебного, гражданского и церковного долга».
После революции, под влиянием эсеровской агитации, крестьяне поверили в «народское право», которое понималось как возможность делать, что угодно. Мужики захлебнулись свободой. Сход мог арестовать любого по одному крику из толпы. В числе пострадавших едва ли не раньше других оказался «демократический» псаломщик Кротков. Его вкупе со священником и дьяконом изгнали из прихода общественным приговором. «Приходилось, – рискуя жизнью, – говорить… на собраниях много и терять много крови; приходилось быть между огнем и бездной» - продолжал священник. При этом следовало непременно говорить о земле и воле, чтобы управлять толпой слушателей. Не терявший самообладания отец Василий заключил союз с начальником почтового отделения, эсером: священник взял на себя на сходах освещение богословских и философских вопросов, а почтмейстер – политико-экономических.
С течением времени, как констатировал отец Василий, революционное опьянение схлынуло, крестьяне начали тосковать по порядку и твердой власти. Смолкли крики о том, что ни храма, ни попа более не требуется.
Похожие драмы разыгрывались повсеместно.
Захлебывание смутно понимаемой свободой с одной стороны, провоцировало отталкивание от всякой власти, с другой – востребовало образованных людей для объяснения происходящего и формировало запрос на твердый понятный порядок. Надо сказать, что первые же недели после революции сформировали ситуацию на весь период Гражданской войны. «Нет связи с местами», «полная оторванность», уезды живут «обособленной жизнью» - такие и подобные формулировки будут часто мелькать в переписке советских и большевистских органов в годы военного коммунизма. О том же станут писать и белые. В этих обстоятельствах и сыграет роль пресловутая агитация, в которой большевики окажутся изощреннее и напористее.
Крушение императорской власти сразу вызвало к жизни самые разные потенциалы. Это и огромный заряд надежды на лучшее, на упразднение странных или устаревших бюрократических ограничений, это и безответственная революционная требовательность к окружающим и к самой жизни. Вышли на поверхность амбиции, светлые надежды, заблуждения, счеты и обиды. Для многих провинциальных интеллигентов подъем очень быстро сменился разочарованием или сложной траекторией смены политических пристрастий. Изменение политических симпатий хорошо выразил булгаковский Василиса во время грабительского «обыска»: «Вот так революция… хорошенькая революция. Вешать их надо было всех, а теперь поздно…» Потом кто-то пойдет в большевики, и станет вполне органичным, до поры до времени, «винтиком», а для кого-то и вершителем судеб. Так, например, ряд кирсановских эсеров, соратников А.С. Антонова, без лишних терзаний удержался на советской службе, сменив партийную принадлежность. Кто-то окажется уязвимым и зависимым от несчастного пайка совслужащим. Кто-то составит одну из опор белой армии – о добровольцах из учащейся молодежи, например, писали едва ли ни все белые мемуаристы. Так, упомянутый нами депутат Думы из крестьян С.В. Аникин, активный в 1905 – 07 гг., почти не проявил себя в 1917 г., работал на ниве просвещения в родной Саратовской губернии и вскоре умер, а другой депутат из крестьян - А.Ф. Аладьин – трудовик, революционер и политэмигрант, стал сподвижником генерала Лавра Корнилова в 1917 г., быховским узником, затем служил в белогвардейских войсках на Юге. «Сэр Аладьин», - иронизировали над ним, так как он много лет провел в Англии.
Через полтора года после революции, белогвардейская газета «Донская волна» (№20) писала в стихах и прозе о русском интеллигенте весьма нелицеприятно. «Инсаров в Болгарии в партии русофилов, а Кирсанов в России в партии германофилов. Анна Каренина – в женском баталионе смерти. Рудин Керенскому дуэль предложил – кто кого переговорит».
А вот отрывок из стихотворения:
Обезлюдеют партии, фракции
Сгложут мыши «святые знамена».
К берегам неизбежной реакции
Ты причалишь свой челн облегченно.
…
Ты вторично познал, что брыкается
И брыкается больно свобода.
Так начни ж «забываться и каяться»,
Как тогда, после пятого года.
Извела, доконала политика!
Лучше тлеть средь «духовных исканий»,
Снова быть безответственным нытиком
И показывать кукиш в кармане.
Можно понять горькую иронию взявших в руки оружие по отношению к «проболтавшим Россию». Однако надо помнить, что первые дни и недели Февраля для многих провинциальных интеллигентов были временем надежд, пусть весьма наивных, и острых разочарований. Иными словами - ярчайшим эмоциональным переживанием. И далеко не все из них соответствовали карикатурным клише. Реальный опыт революции заставлял делать жизненный выбор, и этот выбор определил судьбы десятков тысяч образованных провинциалов на многие жестокие годы.
Впоследствии о февральских днях будет написано немало горьких слов. Арсению Несмелову принадлежит стихотворение «Этот день», в котором не найти радужных интонаций. Выражение «великая и бескровная» - либеральное клише – станет для военных, для белого лагеря издевательской меткой, обозначающей верхоглядство, легковесность и восторженность хозяев первых дней и недель революции.
Может быть, главной силой революции было подспудное ощущение, что прежний порядок исчерпал себя, что будет и должно быть что-то иное. В то же время революция, о которой почти открыто толковали в думских и военных, и в целом образованных, кругах, - стала неожиданной. И отнюдь не только для аполитичных провинциалов. Нет, для самих вождей и устроителей. Действительно, эмигрант Ленин в январе 1917 года рассуждал о внуках, которым может посчастливиться увидеть революцию, Керенский с друзьями пришли к выводу о невозможности революции уже на фоне начавшихся в Петрограде волнений. На это обращает внимание задиристый, умный и наблюдательный Иван Солоневич. По его словам, «делала революцию вся второсортная русская интеллигенция последних ста лет. Именно второсортная. Ни Федор Достоевский, ни Дмитрий Менделеев, ни Иван Павлов, никто из русских людей первого сорта - при всем их критическом отношении к отдельным частям русской жизни - революции не хотели и революции не делали. Революцию делали писатели второго сорта - вроде Горького, историки третьего сорта — вроде Милюкова, адвокаты четвертого сорта - вроде А. Керенского. Делала революцию почти безымянная масса русской гуманитарной профессуры, которая с сотен университетских и прочих кафедр вдалбливала русскому сознанию мысль о том, что с научной точки зрения революция неизбежна, революция желательна, революция спасительна».
Правые напишут о том, что революция зрела в великосветских салонах. Много сказано об отчуждении образованных кругов от власти и императорской семьи. Респектабельная семья прячет от друзей свое близкое знакомство с фрейлиной государыни, ее едва ли ни с черного хода принимают, - вполне обычный сюжет. Распутин, шпионаж, Протопопов, «темные силы» – все это признаки возбужденного общественного сознания последних месяцев перед революцией.
«Боль, страх и голод, которые мы переживаем, мешают нам видеть мелочи повседневной жизни, из которых и строится подлинная жизнь. А сколько бы поучительного и гораздо более убедительного, чем самая сильная статья, дал бы простой разбор мелких фактов, взятых из самой исподи жизни», - так писал в «Очерках красной деревни» одаренный литератор и тертый жизнью человек - И.С. Соколов-Микитов. В жизни той революционной эпохи, в самом деле, часто соседствовало трагическое, смешное, парадоксальное.
Картинок столичных событий революционных дней и пореволюционных недель много: существует солидный корпус дневников и воспоминаний, есть впечатляющая и скрупулезная солженицынская реконструкция, работа Георгия Каткова... Применительно к провинции – ситуация иная, особенно если с губернского уровня спуститься на уровень уезда и ниже – в слободы, села, заштатные городки, где тоже были школы, больницы, свой круг интеллигенции, священники, кооператоры, помещики.
Предвоенные годы и тем более война меняли облик многих профессиональных корпораций. Достаточно вспомнить о том, насколько изменился офицерский корпус. Остатки кадрового офицерства растворились во многих десятках тысяч офицеров военного времени. Практически вся образованная молодежь надела погоны. Многое менялось и в корпусе провинциальной интеллигенции. Он пополнялся выучившимися крестьянами, стремительно росло число учителей, агрономов, техников и гидротехников, землемеров, инженеров. Мощно развивалась кооперация, и кооператор становился влиятельной фигурой в провинции. Быстрый рост образования (в повестке дня стоял вопрос об обязательном всеобщем образовании) придавал новые черты деревне. Среди интеллигентов «из мужиков» – например, А.Ф. Аладьин и С.В. Аникин – депутаты Первой государственной думы от поволжских губерний. Так что уездный интеллигент в предреволюционные годы – разный. Это и лишившийся земли или беднеющий помещик, вынужденный служить или работать. Это народные учителя из недавних крестьян, это врачи, стремительно росший в годы столыпинской реформы круг специалистов. Это священство и причт. А в церковной среде многим было ясно, что церковная жизнь чрезвычайно отягощена и государственным вмешательством, и угасанием рвения немалого числа пастырей. Это возбуждало силы ревностных, возникали, например, «кружки ревнителей православия».
Кроме того, за плечами был 1905 год. Многие интеллигенты тогда получили опыт политической и нелегальной деятельности. В результате кто-то отошел от слишком горячей политики, кто-то был испуган, кто-то, напротив, укрепился в политических пристрастиях, как правило, народнического толка.
Земская структура в предреволюционные годы уже не справлялась с разросшимся хозяйством. Интересный факт: журнал «Волостное земство» начал выходить с января 1917 года, хотя никакого волостного земства не существовало, только долгие разговоры о нем. Лишь Временное правительство введет это учреждение, выборы пройдут в августе-сентябре, и этим земствам достанется действовать в условиях начинающейся гражданской войны. Но уже ясно было, что прежняя структура самоуправления не выдерживает быстрого усложнения жизни. Война вызвала к жизни новые самодеятельные организации, всякого рода комитеты и советы. Министерство внутренних дел смотрело на эти образования с подозрением, сомневаясь в их благонадежности. В целом, история земств имела не только сильные, но и теневые стороны. Любознательный читатель может обратиться к работам Е. Чернышевой, которые посвящены историографии деятельности земств. Например, правые обращали внимание на бюрократизацию земской деятельности и другие язвы, которые не принято было замечать в лагере либеральном. Священники горько писали о странном положении дел: церковно-приходская школа живет на пожертвования и влачит спартанское, а то и просто жалкое существование в небогатом приходе. А рядом строится земская «школа-дворец», на правительственные субсидии, а тамошние учителя нередко бравируют безбожием и оппозиционностью.
Но в подавляющем большинстве случаев уездный интеллигент был, прежде всего, работником. Очень добросовестным и самоотверженным. Война добавила нагрузки, многих мужчин призвали. Появлялись в возрастающем количестве раненые, беженцы, организовывались местные военно-промышленные комитеты… Все эти заботы тоже ложись на плечи образованного уездного общества.
Таким образом, уездная интеллигенция находилась в очень напряженном поле: между слухами, модами, будирующими статьями, идущими из столиц и крупных городов, и мужицкими надеждами на землю, на «прирезку», крестьянскими интерпретациями происходящего на фронте и в городах. Уездные интеллигенты и сами нередко были политически ориентированы, как правило, в народническом стиле.
Жандармские документы фиксировали слухи в образованных кругах про «немку - императрицу» и Распутина. Эти слухи порождали своего рода антимонархический или даже исключительно антиниколаевский патриотизм. Широкое убеждение в том, что правит Россией глупость или измена (знаменитый рефрен из провокационного выступления кадетского лидера П.Н. Милюкова в Государственной думе 1 ноября 1916 г.; сам он всю жизнь гордился, что подал «штормовой сигнал революции») определяло настроения на местах.
Неясные ожидания и внутренняя готовность к благотворным, как многим казалось, переменам прорвались после известий об отречении императора. Если в столицах и губернских центрах первые недели после революции еще можно было продолжать жить привычным бытом и активно участвовать в забурлившей общественной жизни, то в уездах все было «ближе к земле» и прозаичнее.
Очень ранняя и точная реакция – у М.М. Пришвина. Он записывает в дневнике уже 1 марта: «Жуткий вопрос, что делается в остальной России - никто этого не знает. И кто-то говорит: «А радость какая! будто Пасха»».
Действительно, что же там, в «остальной России»?
Для глубинки революция пришла через телеграф или газету. В 1920-е годы и позднее, специальные большевицкие комиссии, так называемые истпарты, собирали воспоминания местных деятелей революции. Нередко это были самые простые, едва грамотные «трудящиеся», которых революция призвала к активной политической жизни. Так вот, стереотипная картина в воспоминаниях о Феврале такова. Мальчишки бегут с ближайшей станции или приезжает почтальон: в Питере царя «скинули». – «Врёшь!» Так вон – на станции студенты жандармов разоружают. «Правда!!»
В Весьегонске Тверской губернии объявление о новой власти сделал недавний исправник. В зауральском Кургане перед железнодорожными рабочими выступил… жандармский офицер. И это было продиктовано самыми трезвыми соображениями: лучше объявить о том, что уже стало известно из столиц, нежели ждать низовых интерпретаций, которые неизбежно обросли бы, как выражались в полицейской переписке в царское время, «нелепыми слухами».
Вот как дело было в Кирсанове. Это тихий уездный город Тамбовской губернии. Известность ему придадут последующие события, - Кирсановский уезд станет наиболее активным в знаменитой «Антоновщине». Здешняя женская гимназия являлась островком просвещения, - как это тогда понималось в интеллигентной среде. Читались книги, либеральные учителя вольно трактовали вопросы программы, так что про «темноту, бесправие и угнетение» старшеклассницы знали всё, и народнические настроения были крепки. Большинство гимназисток собиралось становиться народными учительницами. Февральская революция среди учителей и учениц встретила самый горячий отклик. Все с энтузиазмом украсились красными бантами, с ними и на занятия ходили. Ученицы 7-го класса писали болевшему знакомому: «Поздравляем Вас с великими днями обновления России!!! Всеобщее настроение и восторг отразились и на Кирсанове и на нашей маленькой гимназии. Мы вместе с другими гражданами России празднуем эти великие дни и не можем не поделиться своей радостью с Вами. Пусть духовное возрождение России послужит стимулом к Вашему выздоровлению. Да здравствует свобода! Да здравствует освобожденная Россия! (7/III-1917 г.)». Этот восторженный настрой сохранялся до конца учебного года. В мае состоялась демонстрация. При этом купеческий Кирсанов в большинстве своем не испытывал восторга от «освобождения». Похоже, гимназистки с несколькими либеральными учителями действительно чувствовали себя авангардом новой жизни.
В первые же дни после отречения императора во многих городах состоялись винные погромы. Например, в Ельце, в Липецке. Эта стихия проявит себя масштабнее к концу 1917 года, уже после октябрьского переворота, когда волна пьяных погромов захлестнет страну. Ленин не забудет отнести их на счет «контрреволюции». Однако и первые дни революции были омрачены не только кровью, но и спиртными ароматами и дикарской радостью дорвавшихся.
Мемуаристами отмечены сладостные, до совершеннейшей наивности и нелепости, представления крестьян о наступившей свободе. «Городов не будет, - всю землю мужикам отдадут», настала жизнь «на своей воле», многие освоили клише про «старый режим» и «эксплуатацию» и щеголяли ими к месту и не к месту. Мысли о мужицком рае кружили крестьянам головы. Местных дворян, учителей, священников нередко показательно третировали как нахлебников и тунеядцев, более не нужных. Голос большого мира в революционные месяцы был голосом приезжих, чужих. Это могли быть присланные агитаторы или уполномоченные, либо свои же односельчане, побывавшие за родной околицей, фронтовики, прежде всего. Презрительное отношение к местным «белоручкам» - интеллигентам не мешало, затаив дыхание, слушать приезжих революционеров - таких же учителей, но явившихся из центра (хотя бы и уездного!) Однако по прошествии первых недель, авторитет местных интеллигентов часто восстанавливался. Ситуация с властью становилась все менее понятной, множились слухи, и крестьяне потянулись за разъяснениями по знакомым адресам: учитель, агроном, священник.
Выразительные зарисовки общественной жизни и динамики настроений прихожан Балашовского уезда Саратовской губернии (уезд – крупнейший в стране, помещичий, активный, с богатыми традициями крестьянского движения, как антипомещичьего, так и столыпинского, с мощным эсеровским влиянием) дал в своем отчете за 1917 год священник Василий Виноградов, миссионер Братства Святого Креста. Первым делом, инициативой псаломщика Большой Шатневки Кроткова, в округе упразднялась должность миссионера. «Беда в том», – резюмировал священник, – «что ложно прогрессивные пастыри распропагандировали диаконов и псаломщиков, особенно последних, «демократизацией» и близоруким равенством без необходимости исполнения служебного, гражданского и церковного долга».
После революции, под влиянием эсеровской агитации, крестьяне поверили в «народское право», которое понималось как возможность делать, что угодно. Мужики захлебнулись свободой. Сход мог арестовать любого по одному крику из толпы. В числе пострадавших едва ли не раньше других оказался «демократический» псаломщик Кротков. Его вкупе со священником и дьяконом изгнали из прихода общественным приговором. «Приходилось, – рискуя жизнью, – говорить… на собраниях много и терять много крови; приходилось быть между огнем и бездной» - продолжал священник. При этом следовало непременно говорить о земле и воле, чтобы управлять толпой слушателей. Не терявший самообладания отец Василий заключил союз с начальником почтового отделения, эсером: священник взял на себя на сходах освещение богословских и философских вопросов, а почтмейстер – политико-экономических.
С течением времени, как констатировал отец Василий, революционное опьянение схлынуло, крестьяне начали тосковать по порядку и твердой власти. Смолкли крики о том, что ни храма, ни попа более не требуется.
Похожие драмы разыгрывались повсеместно.
Захлебывание смутно понимаемой свободой с одной стороны, провоцировало отталкивание от всякой власти, с другой – востребовало образованных людей для объяснения происходящего и формировало запрос на твердый понятный порядок. Надо сказать, что первые же недели после революции сформировали ситуацию на весь период Гражданской войны. «Нет связи с местами», «полная оторванность», уезды живут «обособленной жизнью» - такие и подобные формулировки будут часто мелькать в переписке советских и большевистских органов в годы военного коммунизма. О том же станут писать и белые. В этих обстоятельствах и сыграет роль пресловутая агитация, в которой большевики окажутся изощреннее и напористее.
Крушение императорской власти сразу вызвало к жизни самые разные потенциалы. Это и огромный заряд надежды на лучшее, на упразднение странных или устаревших бюрократических ограничений, это и безответственная революционная требовательность к окружающим и к самой жизни. Вышли на поверхность амбиции, светлые надежды, заблуждения, счеты и обиды. Для многих провинциальных интеллигентов подъем очень быстро сменился разочарованием или сложной траекторией смены политических пристрастий. Изменение политических симпатий хорошо выразил булгаковский Василиса во время грабительского «обыска»: «Вот так революция… хорошенькая революция. Вешать их надо было всех, а теперь поздно…» Потом кто-то пойдет в большевики, и станет вполне органичным, до поры до времени, «винтиком», а для кого-то и вершителем судеб. Так, например, ряд кирсановских эсеров, соратников А.С. Антонова, без лишних терзаний удержался на советской службе, сменив партийную принадлежность. Кто-то окажется уязвимым и зависимым от несчастного пайка совслужащим. Кто-то составит одну из опор белой армии – о добровольцах из учащейся молодежи, например, писали едва ли ни все белые мемуаристы. Так, упомянутый нами депутат Думы из крестьян С.В. Аникин, активный в 1905 – 07 гг., почти не проявил себя в 1917 г., работал на ниве просвещения в родной Саратовской губернии и вскоре умер, а другой депутат из крестьян - А.Ф. Аладьин – трудовик, революционер и политэмигрант, стал сподвижником генерала Лавра Корнилова в 1917 г., быховским узником, затем служил в белогвардейских войсках на Юге. «Сэр Аладьин», - иронизировали над ним, так как он много лет провел в Англии.
Через полтора года после революции, белогвардейская газета «Донская волна» (№20) писала в стихах и прозе о русском интеллигенте весьма нелицеприятно. «Инсаров в Болгарии в партии русофилов, а Кирсанов в России в партии германофилов. Анна Каренина – в женском баталионе смерти. Рудин Керенскому дуэль предложил – кто кого переговорит».
А вот отрывок из стихотворения:
Обезлюдеют партии, фракции
Сгложут мыши «святые знамена».
К берегам неизбежной реакции
Ты причалишь свой челн облегченно.
…
Ты вторично познал, что брыкается
И брыкается больно свобода.
Так начни ж «забываться и каяться»,
Как тогда, после пятого года.
Извела, доконала политика!
Лучше тлеть средь «духовных исканий»,
Снова быть безответственным нытиком
И показывать кукиш в кармане.
Можно понять горькую иронию взявших в руки оружие по отношению к «проболтавшим Россию». Однако надо помнить, что первые дни и недели Февраля для многих провинциальных интеллигентов были временем надежд, пусть весьма наивных, и острых разочарований. Иными словами - ярчайшим эмоциональным переживанием. И далеко не все из них соответствовали карикатурным клише. Реальный опыт революции заставлял делать жизненный выбор, и этот выбор определил судьбы десятков тысяч образованных провинциалов на многие жестокие годы.
Об авторе
Посадский Антон Викторович, доктор исторических наук, доцент, профессор Поволжского института им. П.А. Столыпина РАНХиГС (Саратов). Родился в 1968 г., в 1992 году окончил исторический факультет Саратовского государственного университета. Автор около ста научных публикаций, в том числе монографий: «Крестьянство во всеобщей мобилизации армии и флота 1914 года (по материалам Саратовской губернии)» (Саратов, 2002); «Военно-политические аспекты самоорганизации российского крестьянства и власть в 1905 – 1945 годах» (Саратов, 2004); «От Царицына до Сызрани. Очерки Гражданской войны на Волге» (Москва, 2010).
Посадский Антон Викторович, доктор исторических наук, доцент, профессор Поволжского института им. П.А. Столыпина РАНХиГС (Саратов). Родился в 1968 г., в 1992 году окончил исторический факультет Саратовского государственного университета. Автор около ста научных публикаций, в том числе монографий: «Крестьянство во всеобщей мобилизации армии и флота 1914 года (по материалам Саратовской губернии)» (Саратов, 2002); «Военно-политические аспекты самоорганизации российского крестьянства и власть в 1905 – 1945 годах» (Саратов, 2004); «От Царицына до Сызрани. Очерки Гражданской войны на Волге» (Москва, 2010).