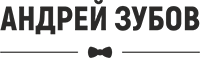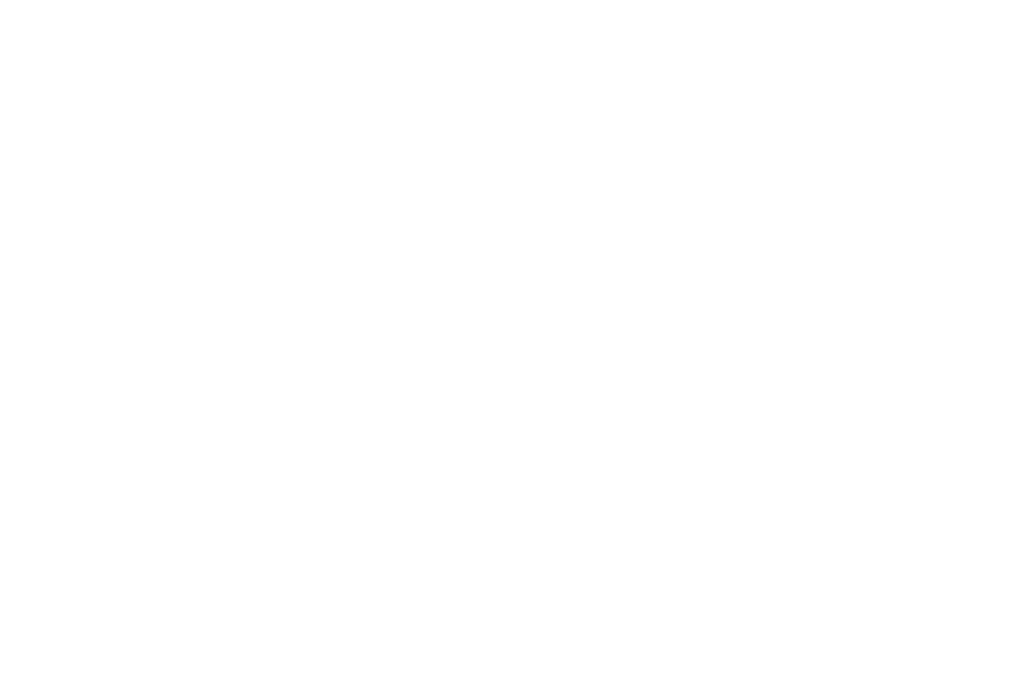КУРС История России. XIX век
Лекция 34
Образование в Николаевской России
Образование в Николаевской России
аудиозапись лекции
видеозапись лекции
содержание
- Взаимная чуждость внутри народа
- Плоды Александрова царствования
- Продолжить Александра и исправить его вынужденные шаги последних лет
- Альтернатива в образовании
- Чугунная цензура
- Цензура над цензурой
- Упущенный шанс
источники
- М.А. Корф. Записки. М.: Захаров, 2003
- А.А. Корнилов. Курс истории России XIX века. Москва, 2004.
- Н.А. Энгельгардт. Очерк истории Русской цензуры в связи с развитием печати (1703-1903). Спб.: Суворин, 1904.
- Н.К. Шильдер. Николай I… Т.2
- М. А. Корф. Записки. Русская Старина, 1900, т. 101.
- П.А. Вяземский. Старая Записная книжка. Издательство писателей в Ленинграде, 1927 (с) Л. Я. Гинзбург, составление, 1927.
- А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений: В 10-ти тт. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом); 4-е изд. Л.: «Наука» Ленинградское отд., 1978.
- А.Дж. Тойнби. Пережитое, Мои встречи. М.: Айрис-пресс, 2003.
- Б.Н. Миронов. Социальная история России. Т.1, Спб, 2000.
- А.А. Корнилов. Курс истории России XIX века. Москва, 2004.
- С.Г. Пушкарев. Россия 1801-1917: Власть и общество. М.: Посев М, 2001 .
- А.В. Никитенко. Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был»: записки и дневник (1804-1877 гг.). 2-е изд., СПб., 1905.
- А.Д. Блудова. Воспоминания. М., 1889.
- Б.Н. Чичерин. Воспоминания. Минск. 2001.
- И.С. Аксаков. Сочинения. Т.5, М., 1886.
- А. Ф. Тютчева. При дворе двух императоров. М. Захаров, 2000.
- А.И. Герцен. Былое и Думы. Исповедь. М.: Захаров, 2003.
- Россия под надзором. Отчеты III Отделения 1827-1869 гг. / Сост. М.В. Сидорова, Е.В. Щербакова. М., 2006.
текст лекции
1. Взаимная чуждость внутри народа
Восстание 14 декабря 1825 года не увенчалось успехом в первую очередь потому, что либеральные и конституционные упования, побуждавшие большинство заговорщиков к борьбе с абсолютистской и крепостнической Россией, были совершенно непонятны простому народу, тем крестьянам и солдатам, тем 95 процентам населения, ради восстановления свободы и гражданского достоинства которых и готовился переворот. По рассказу Николая Павловича, призванные требовать «Константина и конституцию» солдаты думали, что «Конституция» — это жена цесаревича Константина Павловича. Крестьяне жаждали свободы от рабства, утверждения прав собственности на свою землю и иное имущество, солдаты мечтали об отмене рекрутчины, о возвращении после нескольких лет службы к своим жёнам и детям, о смягчении системы телесных наказаний в армии, унижавших, а порой и калечивших воинов. Но между крестьянами и дворянами, между солдатами и офицерами зияла культурная пропасть — творение императора Петра, завершённое Екатериной Великой. Теперь нам ясно, что это было сознательное, рукотворное зло, а не «гримаса истории».
Восстание 14 декабря 1825 года не увенчалось успехом в первую очередь потому, что либеральные и конституционные упования, побуждавшие большинство заговорщиков к борьбе с абсолютистской и крепостнической Россией, были совершенно непонятны простому народу, тем крестьянам и солдатам, тем 95 процентам населения, ради восстановления свободы и гражданского достоинства которых и готовился переворот. По рассказу Николая Павловича, призванные требовать «Константина и конституцию» солдаты думали, что «Конституция» — это жена цесаревича Константина Павловича. Крестьяне жаждали свободы от рабства, утверждения прав собственности на свою землю и иное имущество, солдаты мечтали об отмене рекрутчины, о возвращении после нескольких лет службы к своим жёнам и детям, о смягчении системы телесных наказаний в армии, унижавших, а порой и калечивших воинов. Но между крестьянами и дворянами, между солдатами и офицерами зияла культурная пропасть — творение императора Петра, завершённое Екатериной Великой. Теперь нам ясно, что это было сознательное, рукотворное зло, а не «гримаса истории».
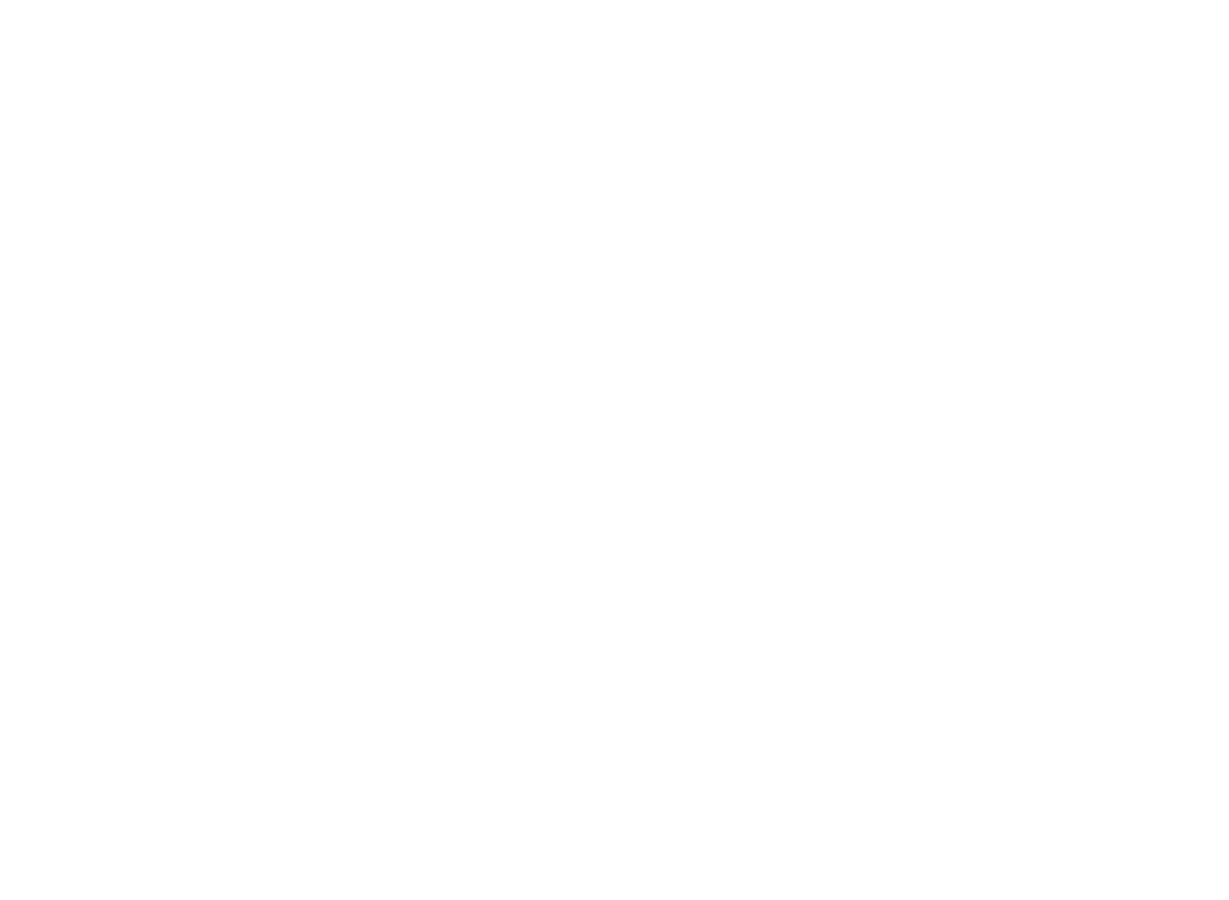
Сенная площадь, Петербург, А. П. Брюллов, 1822 г.,
Государственный музей им. А.С. Пушкина, Москва
Государственный музей им. А.С. Пушкина, Москва
Барон Модест Корф констатировал, даже не в 1825, а в 1848 году: «Господствовавшие тогда на Западе идеи: свобода книгопечатания, народное представительство, национальное вооружение (то есть национальные армии, по призыву) и проч. составляли для девяти десятых нашего населения один пустой звук. Более других страшился и, может статься, один имел повод страшиться класс помещиков, перед вечным пугалищем крепостного нашего состояния». [М.А. Корф. Записки. М.: Захаров, 2003. С.417] Те реформы, которые замышляли дворяне-заговорщики для исправления изъянов русской жизни, оставались простому народу совершенно непонятны, а антимонархические, противоабсолютистские планы декабристов превращали их в глазах простых людей из освободителей в опасных мятежников.
Просвещённая дворянская молодежь, вернувшаяся из заграничного похода 1814-1815 годов, не понимала императора Александра и его преобразовательных планов, а народ не понимал дворянскую молодежь и её устремлений. Эти разрывы когнитивности, эта взаимная культурная чуждость внутри одного народа, в конечном счете, и погубили историческую Россию. Единая культурная общность в русском народе так и не возродилась после сознательного уничтожения её в начале XVIII столетия, в Петровскую эпоху.
Мы помним, что императрица Екатерина II, понимая, что не удержит в рабстве просвещённый народ, в противоречие абсолютистским монархиям Габсбургов и Гогенцоллернов, намеренно держала крестьян в невежестве и тем усугубляла культурную рознь между ними и дворянами. Вспомним запрет для крестьян на дворянские фамилии, на отчества и даже иностранный язык, на котором всё более и более говорили между собой дворяне в XVIII веке.
Император Александр, веря, что спасение России — в восстановлении гражданского самостоянья, одним из первых своих действий по восшествии на престол избрал коренное преобразование системы народного образования.
Император Александр, веря, что спасение России — в восстановлении гражданского самостоянья, одним из первых своих действий по восшествии на престол избрал коренное преобразование системы народного образования.
2. Плоды Александрова царствования
Об этом мы подробно говорили в 7-й лекции нашего курса, но я позволю себе напомнить. Устав 1804 года, как говорил А.А.Корнилов, «ознаменовал собою самый блестящий период в истории русского просвещения». [А.А. Корнилов. Курс истории России... С.339] И в этом согласны с ним практически все историки России.
Об этом мы подробно говорили в 7-й лекции нашего курса, но я позволю себе напомнить. Устав 1804 года, как говорил А.А.Корнилов, «ознаменовал собою самый блестящий период в истории русского просвещения». [А.А. Корнилов. Курс истории России... С.339] И в этом согласны с ним практически все историки России.
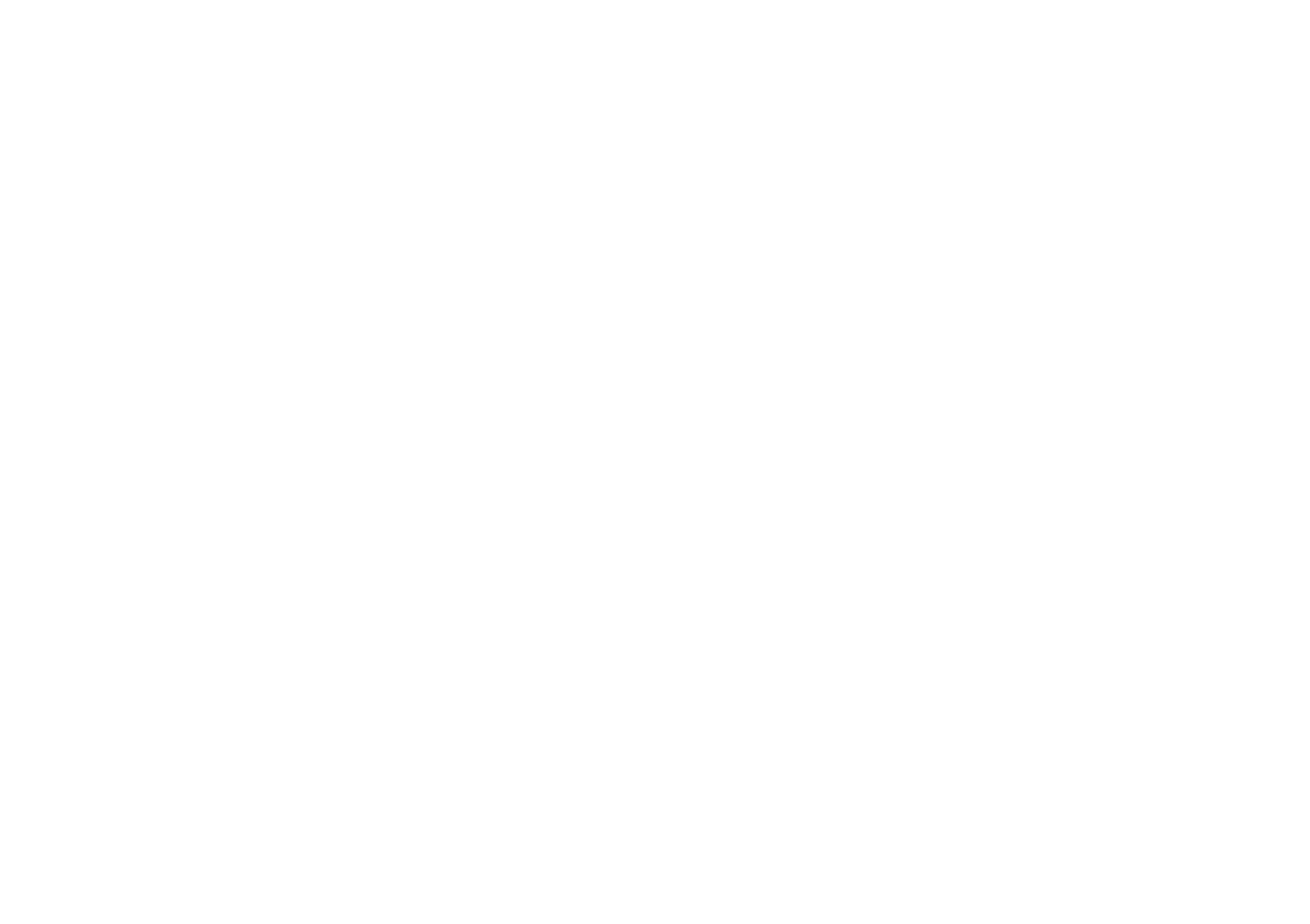
Устав 1804 г. / letopis.msu.ru
Напомню, что главное достоинство системы организации образования, разработанной сербским просветителем Янковичем (Фёдор Иванович) де Мириево и внедрявшейся князем Александром Николаевичем Голицыным, состояло в подчинении всех средних и низших учебных заведений, училищ и гимназий университетам. Университетская наука, равнявшаяся на Западную Европу, естественно упрощаясь, доходила до мещан заштатных городков и даже до крестьян. С этой системой должна была накрепко сочлениться система образования в военных поселениях. Военные поселенцы должны быть образованы — это был один из принципов, который Александр внушал Аракчееву.
Университетские округа создавали возможность распространить со временем европейскую образованность среди всего русского народа. Это было гениальное изобретение Сперанского, Де Мириево, князя Голицына.
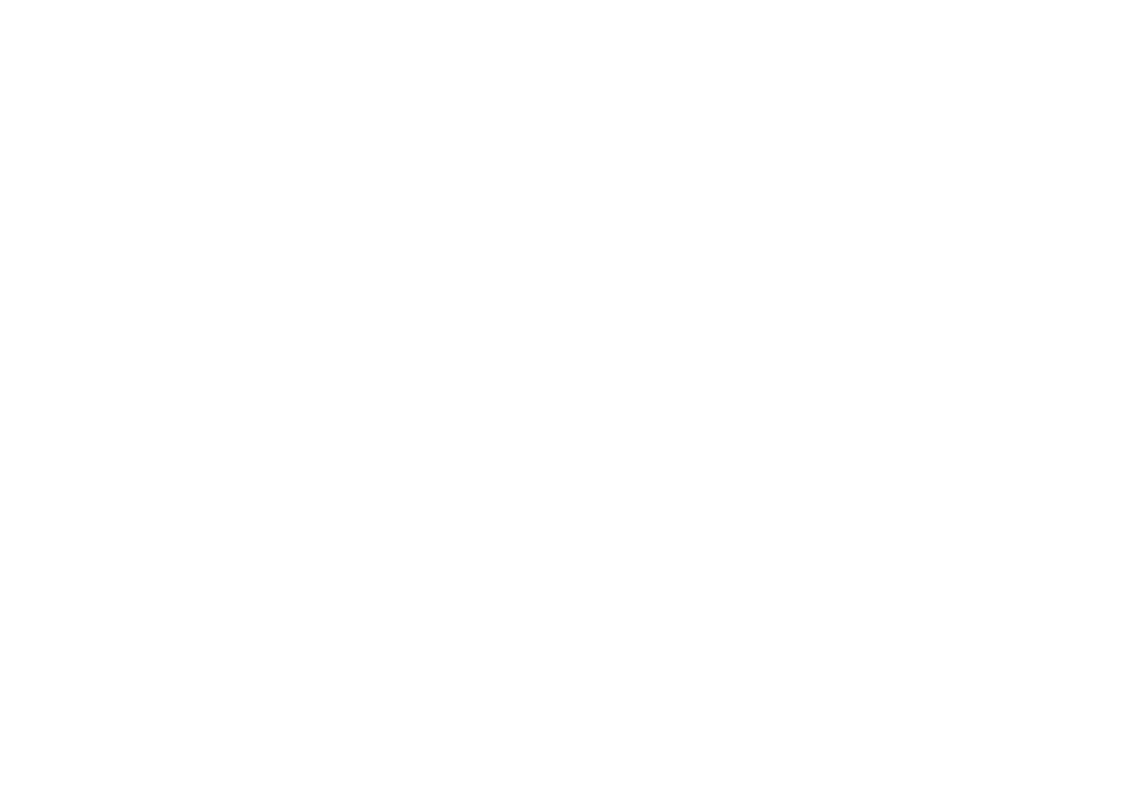
Ф.И. Янкович де Мириево, неизвестный автор, рубеж XVIII-XIX вв.
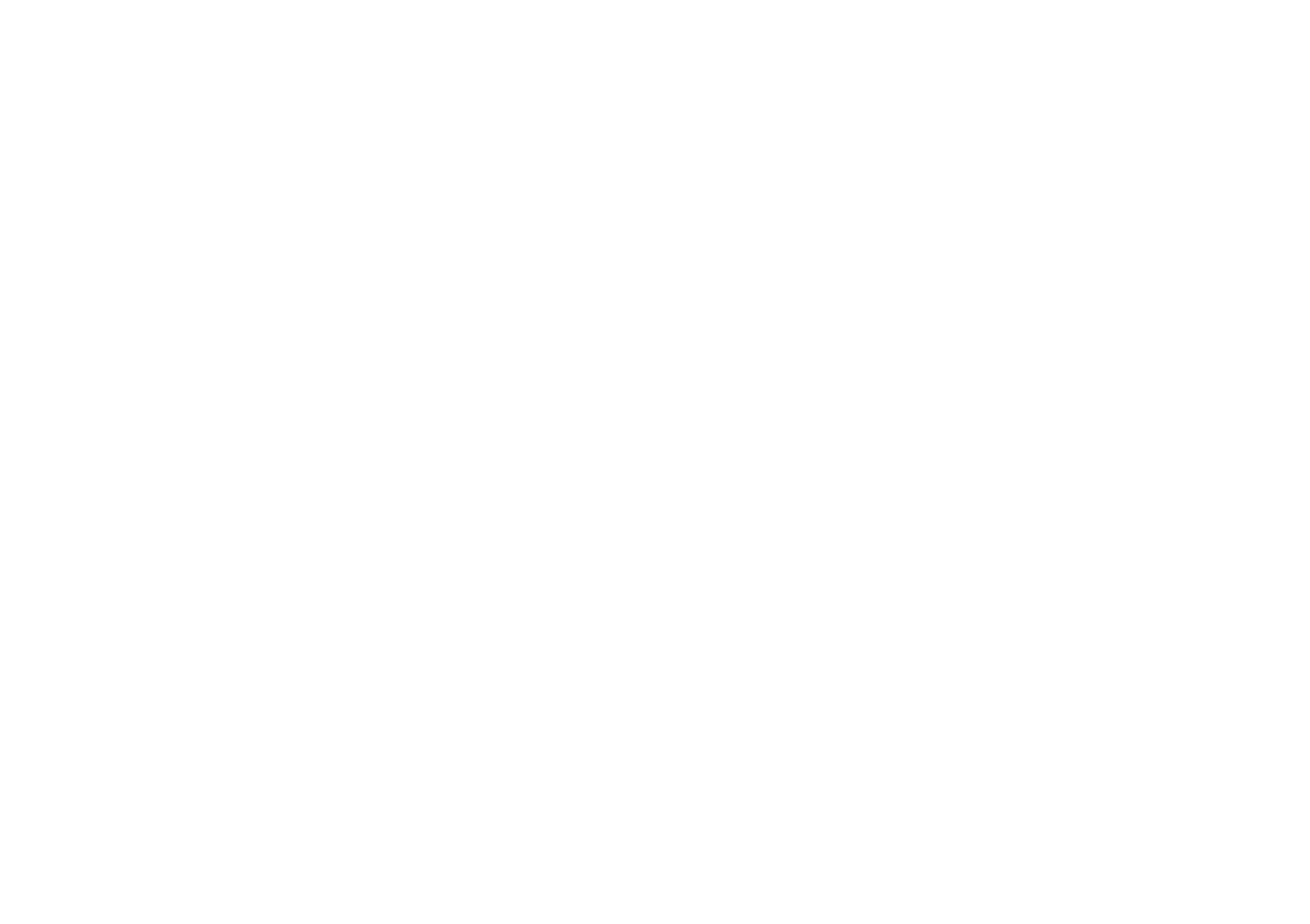
А.Н. Голицын, К.П. Брюллов, 1840 г., Третьяковская галерея, Москва
Но, понятно, что надо было начинать не снизу, а сверху, с подготовки университетской профессуры и кадров учителей для гимназий и училищ. Практически всё Александрово царствование, целых двадцать лет, ушло на это. Уровня действительно общенародного образования система 1804 года стала достигать только в военных поселениях и то лишь в последние годы царствования. Но к 1825 году в России сложился просвещённый, европейски образованный ведущий слой. Ему мы обязаны «золотым веком культуры», пришедшимся на Николаевское тридцатилетие, но возросшим именно в Александрово царствование.
«Тридцатые, сороковые и пятидесятые годы истекшего столетия, — пишет знаток русской культуры Николай Александрович Энгельгардт, — время наивысшего расцвета нашей художественной литературы. На протяжении трех десятилетий столпились таланты чрезвычайной силы, явились прямо гении. Во всех областях художественного слова неиссякаемым ключом било свежее вдохновенное творчество. Великие произведения являлись одно за другим. Поэты и прозаики выступали плеядами. В блеске крупнейших звезд исчезали менее яркие, и многое нами забыто лишь потому, что побледнело пред совершенными созданиями великих мастеров, хотя взятое само по себе обличает крупное дарование». [Н. Энгельгардт. Очерк истории Русской цензуры в связи с развитием печати (1703-1903). - С.34]
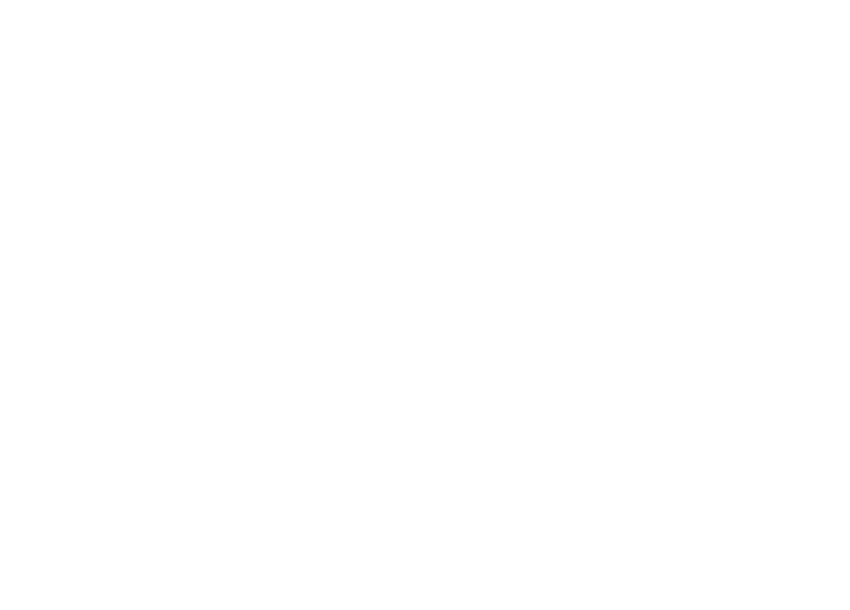
Н.А. Энгельгардт, Иллюстрированный вестник… Вып. 3, СПб., 1914
В тридцатые годы в России блистал зрелый гений Пушкина, писали Лермонтов, Гоголь, князь Владимир Одоевский, Александр Александрович Бестужев (Марлинский), Антоний Погорельский (Алексей Алексеевич Перовский, дядя Алексея Константиновича Толстого), Василий Аполлонович Ушаков, драматург Михаил Николаевич Загоскин, исторический романист, коломенский купец Иван Иванович Лажечников, украинский писатель Григорий Федорович Квитка, Александр Фомич Вельтман, Николай Алексеевич Полевой, Николай Филиппович Павлов, Дмитрий Никитич Бегичев.
Тогда же складывается оригинальная русская философия: Алексей Хомяков, Иван Киреевский, Константин и Иван Аксаковы, Александр Кошелев, Юрий Самарин представляют славянофильское, национально-романтическое направление; Тимофей Грановский, Александр Герцен, Николай Платонович Огарев, Виссарион Белинский, Михаил Александрович Бакунин, Константин Кавелин – круг западников. Особняком стоит трагический мыслитель Пётр Яковлевич Чаадаев.
В духовных академиях начинает развиваться оригинальное богословие, представленное такими замечательными именами, как Федор Голубинский, Федор Сидонский, Иван Скворцов, настоятель посольской церкви в Риме архимандрит Феофан (Авсенёв).
В сороковые годы в литературу входят Тургенев, Достоевский, Григорович, Гончаров, Островский, Фет, Майков, Полонский, Некрасов, Шевченко, Плещеев… В богословие — Сильвестр Гогоцкий, Памфил Юркевич, архимандрит Федор Бухарёв. Огромные аудитории собирают блестящие профессора Московского, Санкт-Петербургского и вновь учрежденного в 1834 году вместо закрытого Виленского — Киевского университетов. Все они — выученики Александрова времени, обычно – стипендиаты, завершившие образование в Германии. Те, кто учились у них в 1830-е годы, составили цвет русской культурной жизни уже в эпоху реформ — Лев Толстой, Константин Леонтьев, Салтыков-Щедрин, Алексей Константинович Толстой, Алексей Апухтин, Федор Тютчев, Александр Николаевич Островский…
Но, восхищаясь плодами «золотого века», нельзя забывать, что русская мысль была разбужена Александром и выросла в ограде устава 1804 года, пользуясь всеми благами практически бесцензурной печати, свободным ввозом в Россию иностранной литературы, почти полной открытостью границ для въезда и выезда людей. Культурный, европейски образованный слой русских людей достиг к концу Александрова царствования той количественной и качественной силы, которая уже в ближайшие за 1825-м годы позволила бы ему расти и в глубину, достигая низших, до того косневших в полном невежестве сословий.
Вы, конечно, помните родственника нескольких декабристов генерал-майора Николая Николаевича Муравьёва (1768-1840). Он был выпускником Страсбургского университета и героем морского сражения в проливе Роченсальм (1790 год). Когда в ходе этого сражения на вопрос «что делать?» он услышал ответ адмирала — «Мужественный и благородный человек знает, что делать в сражении», то приказал своей галере идти к вражескому шведскому флоту и, встав между двумя кораблями, попытался зажечь оба из них, был тяжело ранен и с трудом спасён в этом проигранном сражении.
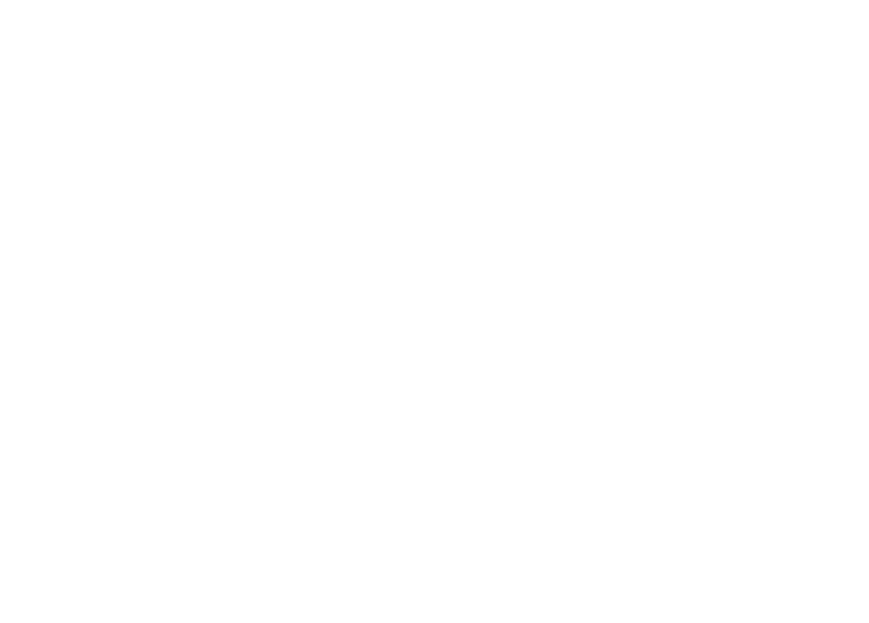
Н.Н. Муравьёв, неизвестный автор, 1836 г., Государственный исторический музей, Москва
Так вот, Николай Николаевич Муравьёв создал в своем имении Осташёво в Рузском уезде Московской губернии (остатки этого имения сохранились и ныне и забыты так же, как забыт и сам этот замечательный человек) школу для крестьянских детей, в которой их готовили не к труду в деревне, а к поступлению в гимназию и потом в университет. В школе одновременно обучалось до шестидесяти детей. А энергичный генерал Муравьёв планировал и другие такие школы и убеждал своих друзей-помещиков последовать его примеру. Выпускникам школы полагалась вольная.
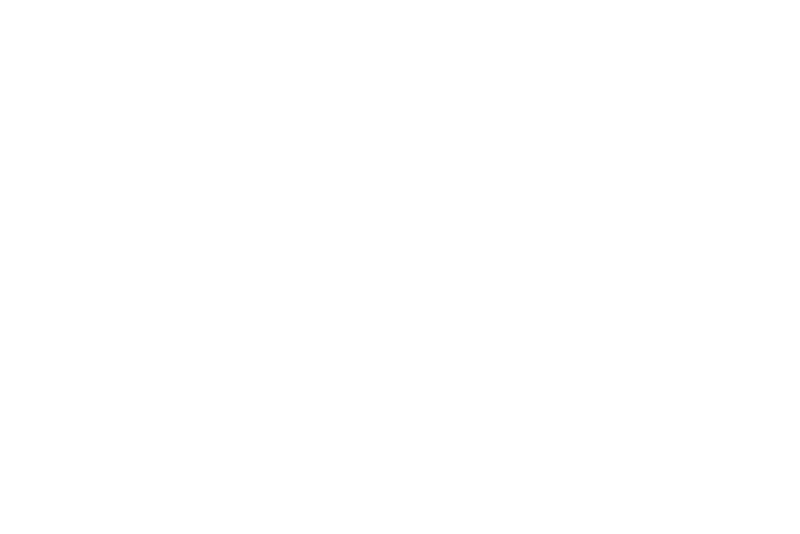
Имение Осташёво / globeofrussia.ru
До этого он учредил в Москве школу колонновожатых — юнкеров (молодых офицеров), готовившихся в офицеры Генерального штаба. Московское училище помещалось в его московском доме на Большой Дмитровке (сейчас — участки 9-11) в 1814 году. Там юношей учили высшей и так называемой чистой математике, в которой сам Муравьёв был очень силён, и другим европейским наукам на высшем уровне. Среди выпускников этого училища было не менее двух десятков декабристов, из-за чего оно было закрыто в 1826 году. Генерал Муравьёв был одним из тех новых русских людей, которые не ждали указаний власти, но сами делали для общества то, что считали полезным и нужным.
Именно это очень важно — самозапуск общества. Не исполнители воли власти, а самодеятельные творцы будущей России, будущего русского общества, именно они появились в Александрово царствование.
3. Продолжить Александра и исправить его вынужденные шаги последних лет
Мы помним, дорогие друзья, что в последние годы царствования Александра произошел взрыв обскурантизма. Из-за страха революции, из-за наивного убеждения неофитов, которыми были в христианстве сам Император и князь Александр Николаевич Голицын, что любой истовый христианин лучше скептика и агностика, были фактически разгромлены Петербургский, Харьковский и Казанский университеты. За этим разгромом стояли интриги двух лицемеров Михаила Леонтьевича Магницкого и Дмитрия Павловича Рунича. Михаил Магницкий, внук математика Магницкого, когда-то друг и соратник Сперанского, даже пострадавший с ним в марте 1812 года, играл в ультра-православного ревнителя благочестия, день и ночь бил поклоны в домашней церкви князя Голицына и добился в 1819 году за это своё псевдоблагочестие назначения попечителем Казанского учебного округа, самого большого учебного округа Империи, простиравшегося от Волги до Тихого Океана.
Мы помним, дорогие друзья, что в последние годы царствования Александра произошел взрыв обскурантизма. Из-за страха революции, из-за наивного убеждения неофитов, которыми были в христианстве сам Император и князь Александр Николаевич Голицын, что любой истовый христианин лучше скептика и агностика, были фактически разгромлены Петербургский, Харьковский и Казанский университеты. За этим разгромом стояли интриги двух лицемеров Михаила Леонтьевича Магницкого и Дмитрия Павловича Рунича. Михаил Магницкий, внук математика Магницкого, когда-то друг и соратник Сперанского, даже пострадавший с ним в марте 1812 года, играл в ультра-православного ревнителя благочестия, день и ночь бил поклоны в домашней церкви князя Голицына и добился в 1819 году за это своё псевдоблагочестие назначения попечителем Казанского учебного округа, самого большого учебного округа Империи, простиравшегося от Волги до Тихого Океана.
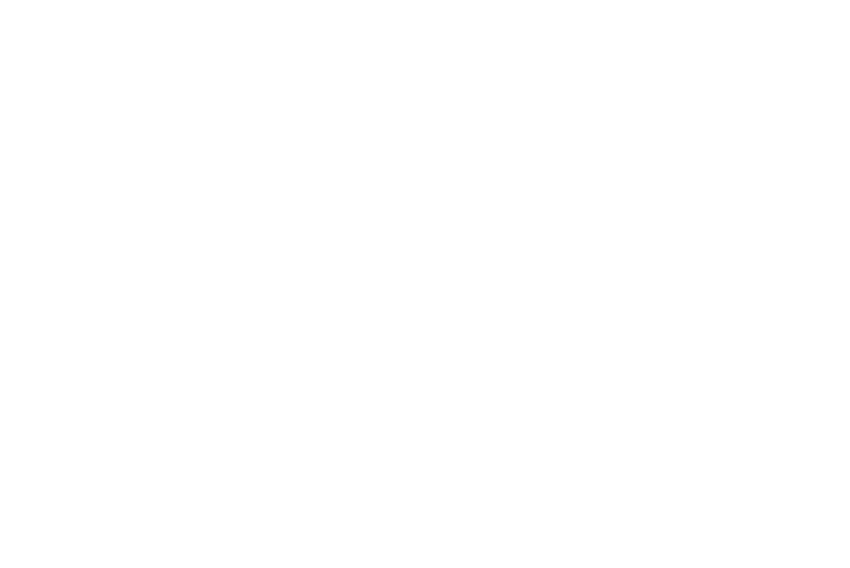
М.Л. Магницкий
Характерна беседа князя Голицына с более проницательным императором Александром, когда Голицын представлял Магницкого на должность попечителя Казанского округа: «Хорошо ли ты его знаешь? — Да, Ваше Величество, я знаю его уже давно. Мне известны прежние его заблуждения, но теперь он исправился. — Ты настаиваешь, стало быть, чтобы я назначил его попечителем? — Если Ваше Величество соизволите на это, то я убежден, что он окажется вполне пригодным для этой должности. — Пусть будет так. Я держусь правила предоставлять самим министрам выбор их подчиненных, но предсказываю тебе, что он будет первым на тебя доносчиком».
Так и оказалось. Когда Магницкий проводил свою ревизию Казанского университета, он предлагал срыть новый великолепно построенный университет, потому что он полон атеизма и масонства. Слава Богу, ему этого сделать не позволили, и мы этим ампирным ансамблем любуемся до сего дня. Но Магницкий изгнал почти всю профессуру, воевал с философией Шеллинга, ввёл для студентов монастырский устав. И его единственная заслуга, может быть, как внука известного Магницкого, это то, что он на кафедру чистой математики назначил великого Лобачевского.
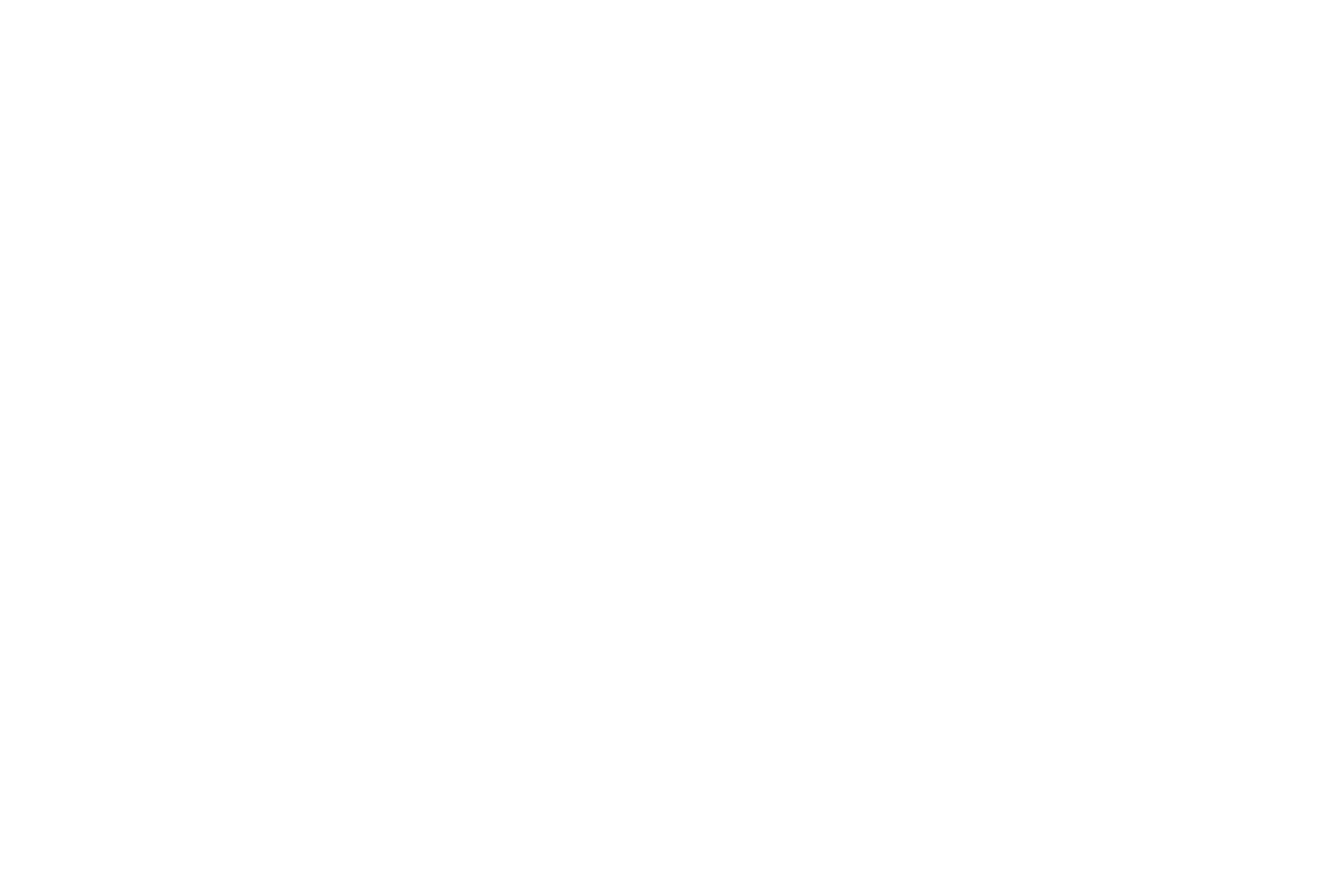
Казанский университет / Wikimedia commons
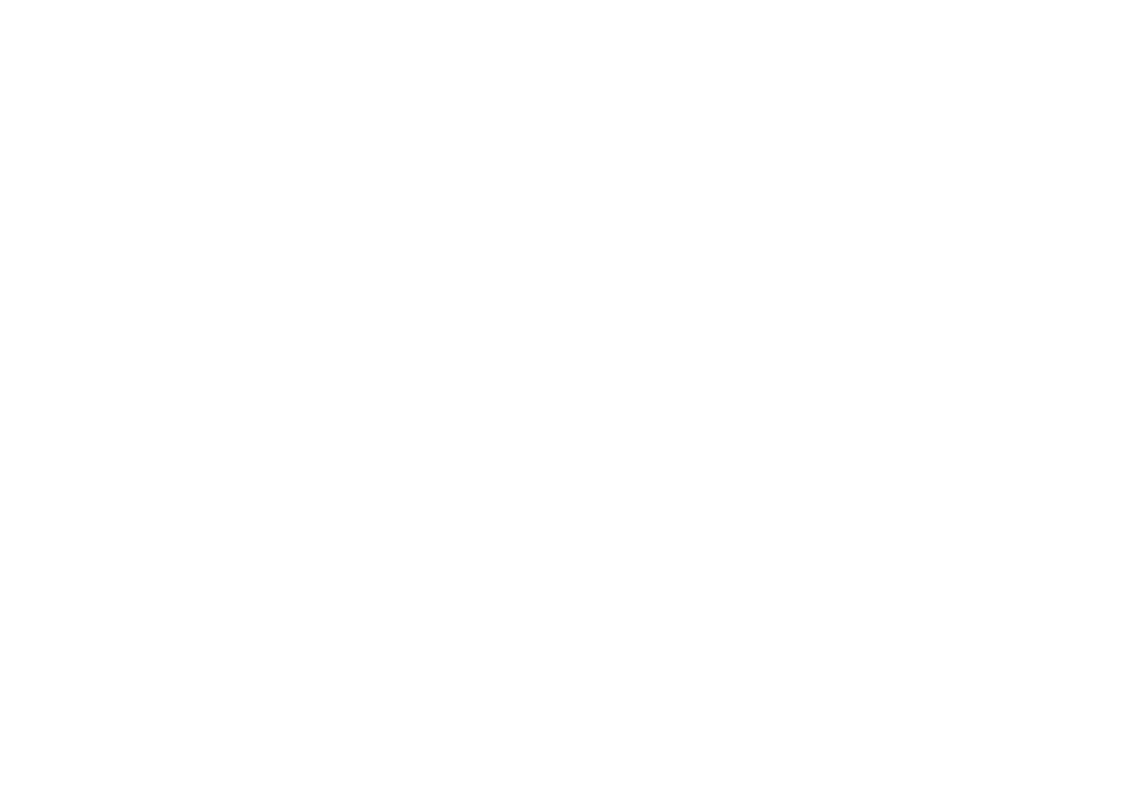
Н. И. Лобачевский, Л.Д. Крюков, 1 пол. XIX в.
Дмитрий Павлович Рунич, такого же типа человек, в 1821 году получил согласие Голицына на разгром Санкт-Петербургского университета. Попечитель Санкт-Петербургского учебного округа Сергей Семёнович Уваров, создатель университета, в знак протеста против того, что его Устав университета не был принят по указанию Рунича, ушёл в отставку. Вместо него попечителем Санкт-Петербургского учебного округа был назначен сам Рунич. Он тоже изгнал профессуру, в том числе и знаменитого учителя правоведения Александра I профессора Балугьянского.
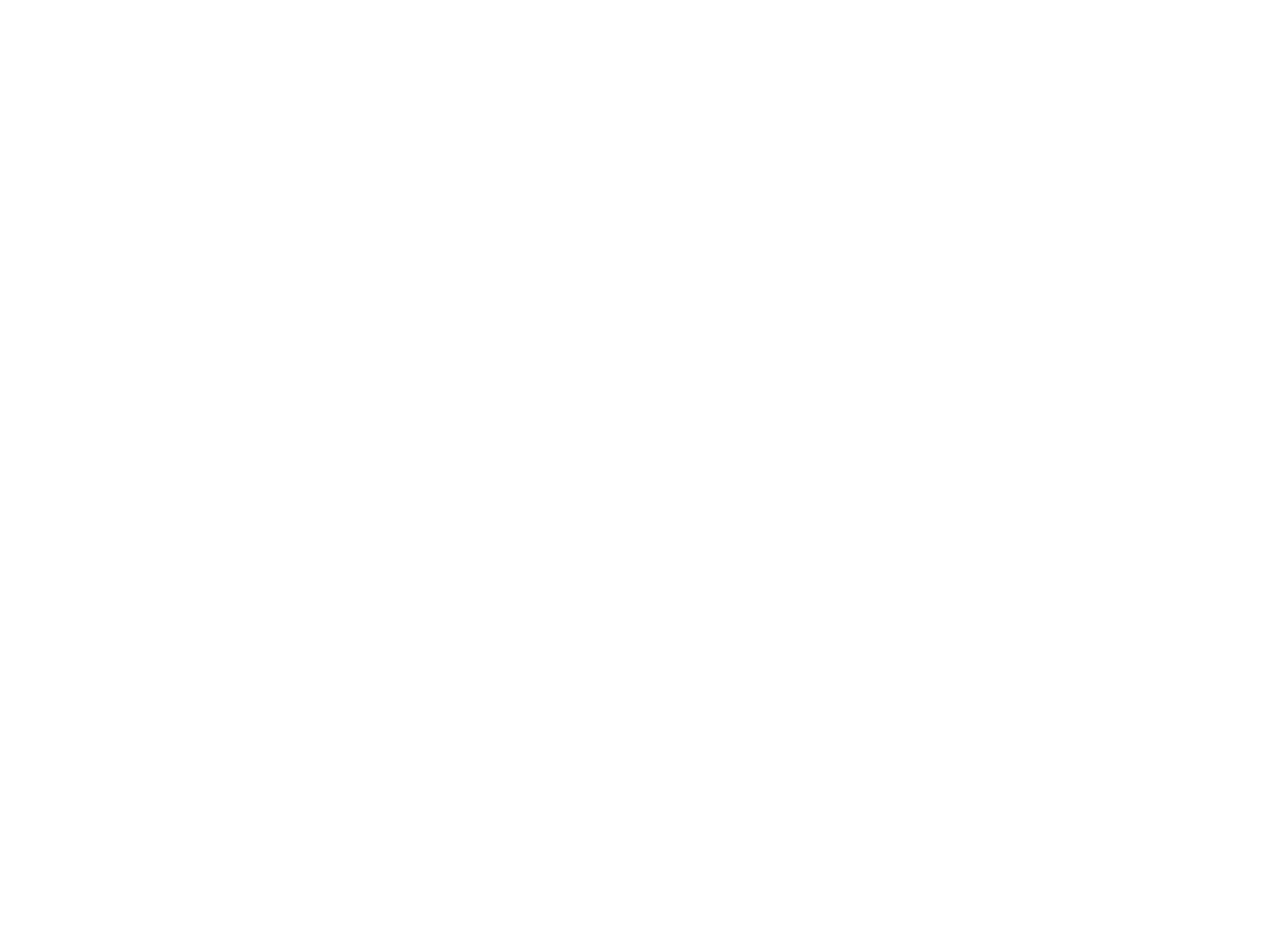
Д.П. Рунич, из книги «Император Николай I…» Н.К. Шильдера, Т.2, СПб, 1903 г.
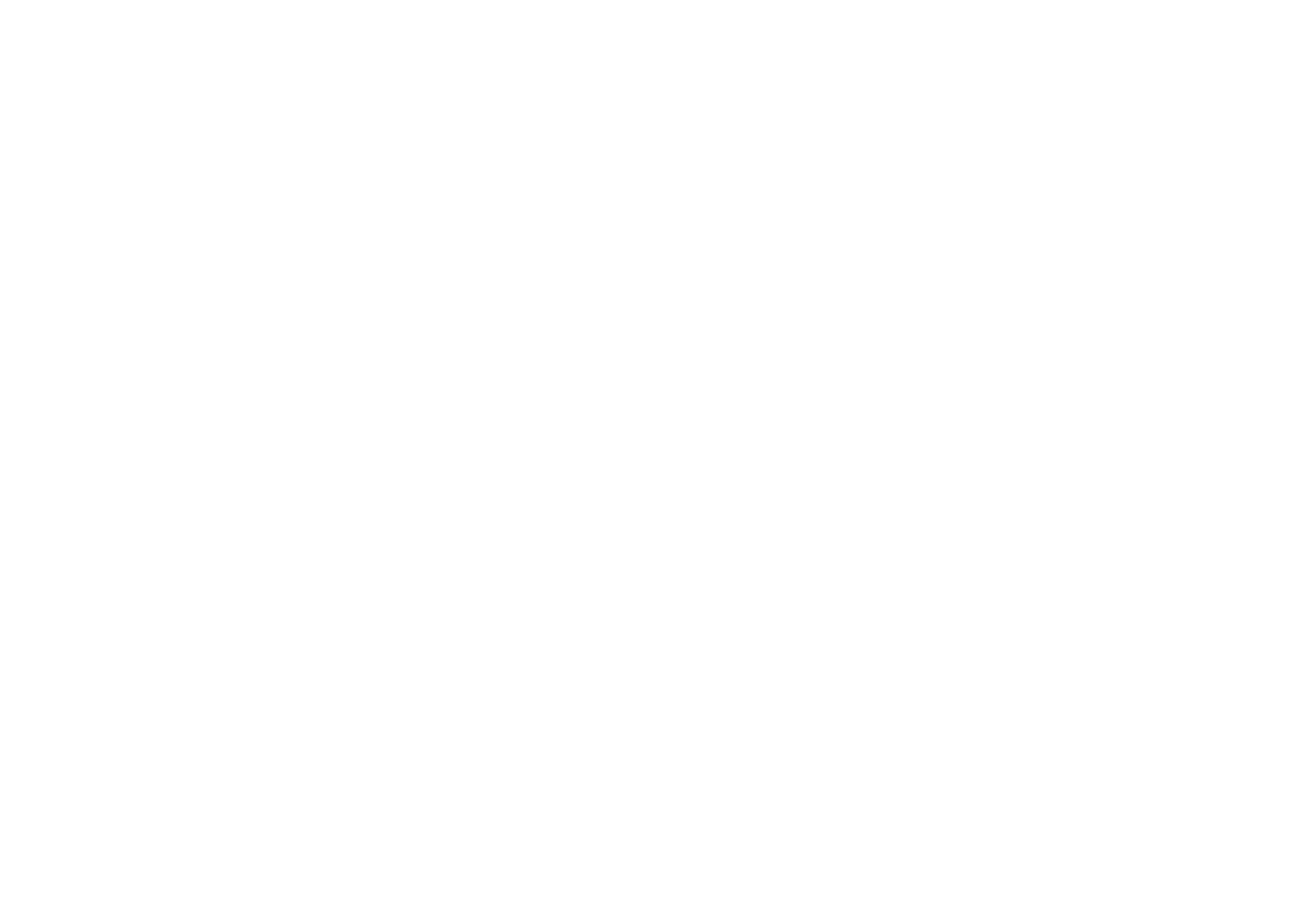
С.С. Уваров, О. Кипренский, 1815-1816 г., Третьяковская галерея, Москва
Возможно, как раз следуя последним просьбам старшего брата, видевшего бесчинства Магницкого и Рунича и сожалевшего, что он допустил это (может быть, по слабоволию, может быть, по своей духовной ошибке), а может быть и по советам глубоко разочаровавшегося в своих выдвиженцах князя Голицына, Николай Павлович безотлагательно лишает Магницкого всех должностей 6 мая 1826 года. На его имения был наложен секвестр, а сам он сослан в Ревель. Оттуда он писал доносы на Сперанского, своего бывшего друга и благодетеля, обвиняя его в сношениях с иллюминатами. Позже, в 1839 году, будучи отправленным на юг России, он писал доносы и на князя Михаила Семеновича Воронцова, губернатора Новороссии. Умер Магницкий в нищете в 1844 году. «Как можно посылать Магницкого в Ревель. Туда ездят за здоровьем, а он присутствием своим и воздух заразит», — отмечал Сперанский в своём дневнике. [Н.К. Шильдер. Николай I… Т.2 с.61]
Указом 25 июня 1826 года был отдан под следствие и смещён со всех постов Рунич. Он также был лишён всех средств существования и умер в 1860 году. Оба ревнителя православного благочестия оказались не только тщеславными ничтожествами, но и банальными казнокрадами. Процессы об их кражах из бюджета университетов продолжались до их смерти. Заметим, что тогда же был отставлен от власти и главный светский интриган против Александра — граф Аракчеев, который, как вы помните, был в заговоре митрополитов.
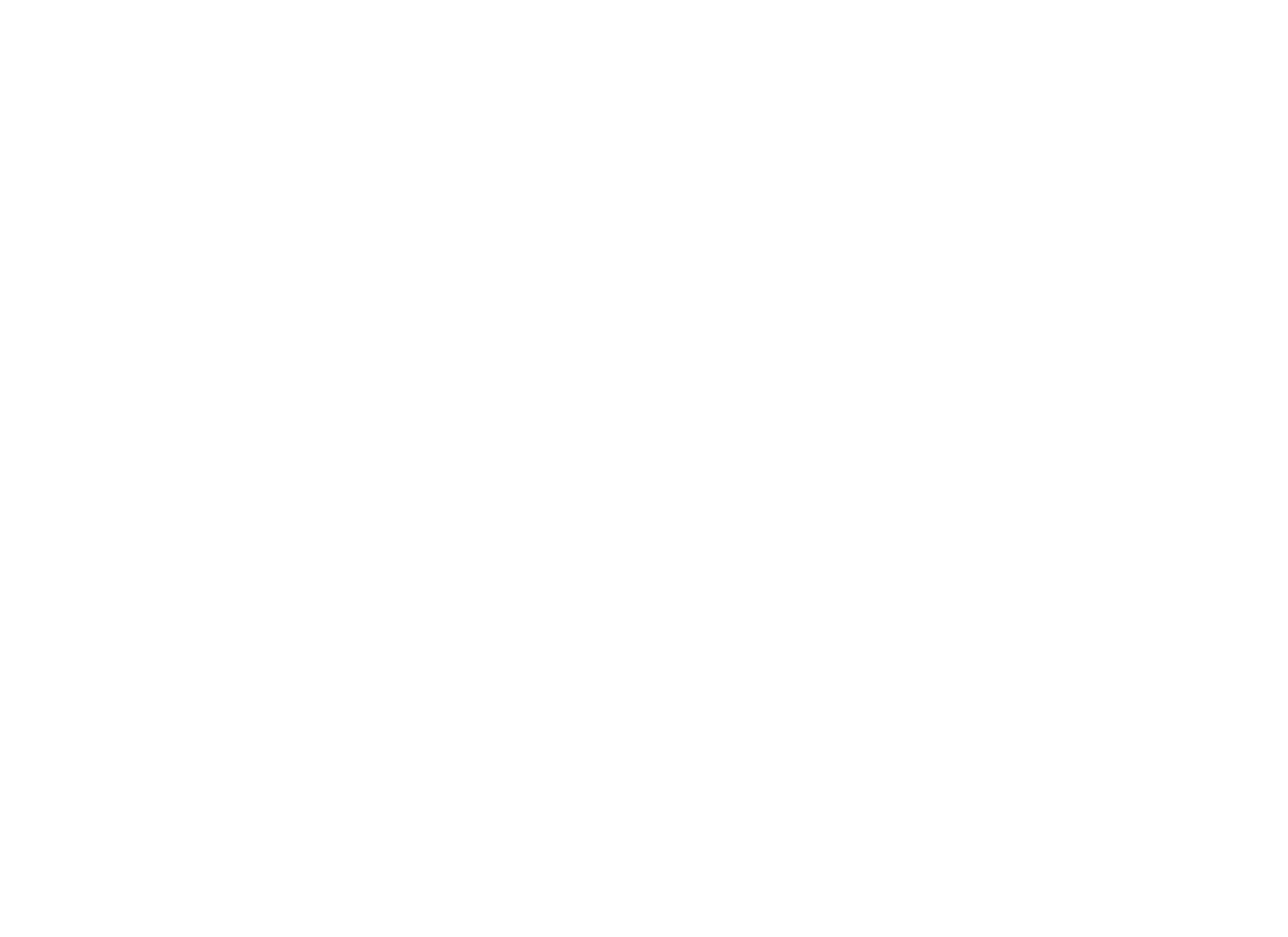
А. А. Аракчеев, Дж. Доу, 1823 г., Эрмитаж, Санкт-Петербург
Так что создаётся ощущение, что Николай Павлович хочет покончить с этим последним плохим периодом правления Александра и продолжить его более прогрессивное предшествующее правление. На это же указывает и судьба Александра Сергеевича Пушкина.
Дело в том, что одной из жертв обскурантизма последних лет Александровского царствования был наш великий поэт. С 9/21 августа 1824 года Пушкин находился в «домашней ссылке» в своем имении в Михайловском. Ссылка последовала за его симпатию к «чистому афеизму», как он сам это называл, уроки которого он, как написал в частном письме, брал в Одессе у какого-то «умного англичанина». «Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, — писал Пушкин своему другу, — но, к несчастью, более всего правдоподобная». За это перлюстрированное письмо двадцатипятилетний Пушкин был вычеркнут из списков чиновников МИДа и сослан под гласный надзор местных властей в своё имение.
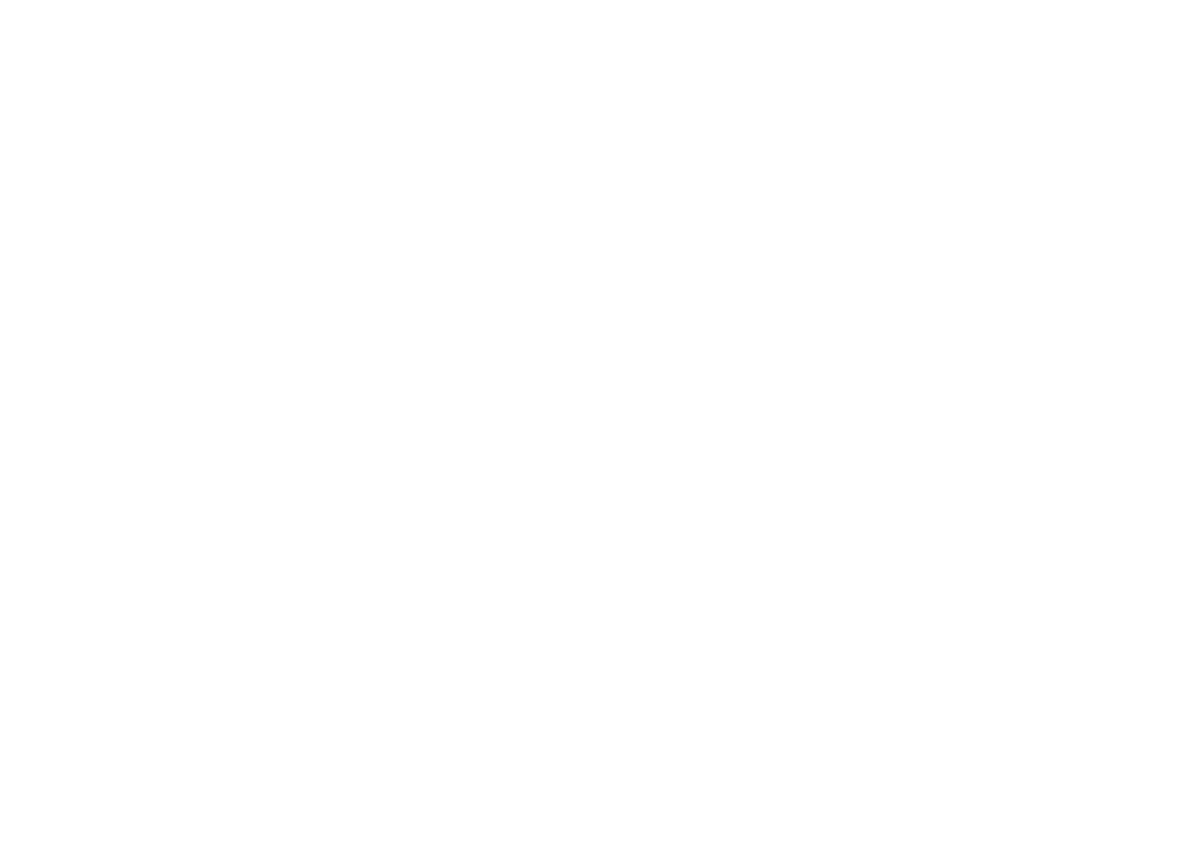
Александр Сергеевич Пушкин в селе Михайловском, Н. Ге, 1875 г.,
Харьковский художественный музей
Харьковский художественный музей
Когда должно было случиться выступление 14 декабря, Пушкин, как известно, собрался в Петербург, но как он сам рассказывал, на окраине села Михайловского он встретил священника, что считалось плохим предзнаменованием, а потом его дорогу три раза перебежал заяц, и суеверный Александр Сергеевич вернулся в свое имение.
В начале 1826 года Пушкин пишет барону Дельвигу, что желал бы «вполне и искренно примириться с правительством». А затем, 11 мая 1826 года по совету друзей подает прошение о прощении на Высочайшее Имя. Вот это прошение: «Всемилостивейший Государь! В 1824 году, имев несчастие заслужить гнев покойного Императора легкомысленным суждением касательно афеизма, изложенным в одном письме, я был выключен из службы и сослан в деревню, где и нахожусь под надзором губернского начальства. Ныне с надеждой на великодушие Вашего Императорского Величества, с истинным раскаянием и с твёрдым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чём и готов обязаться подпискою и честным словом) решился я прибегнуть к Вашему Императорскому Величеству со всеподданнейшею моею просьбою. Здоровье моё, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чём и представляю свидетельство медиков: осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие края».
Император прочёл это прошение и решил исправить ошибку конца предшествующего царствования. 28 августа в Москве во время коронационных торжеств генерал-адъютанту барону Дибичу было сообщено: «Пушкина призвать сюда. Для сопровождения его командировать фельдъегеря. Пушкину позволяется ехать в своем экипаже свободно, под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта. Пушкину прибыть прямо ко мне. Писать о сем псковскому гражданскому губернатору (барону фон Адеркасу)». [Н.К. Шильдер. Николай I… Т.2 с.17] Возможно, на решение молодого Императора повлияли рекомендации Карамзина и других арзамасцев, высоко ценивших молодого поэта. Ведь большинство его лучших произведений ещё не было написано, а написанное в большинстве своём — ещё не было опубликовано.
И вот, 8/20 сентября 1826 года Пушкин прибыл в Москву. Поэт тотчас в Чудовом дворце был представлен Николаю Павловичу. Уставший, пыльный, больной, он предстал перед Императором. Ему была возвращена свобода, о чём с радостью узнало московское общество. Николай Павлович долго говорил с поэтом и потом сказал Дмитрию Николаевичу Блудову (тоже арзамасцу, тогда статс-секретарю и товарищу министра просвещения), что Пушкин – самый замечательный человек в России.
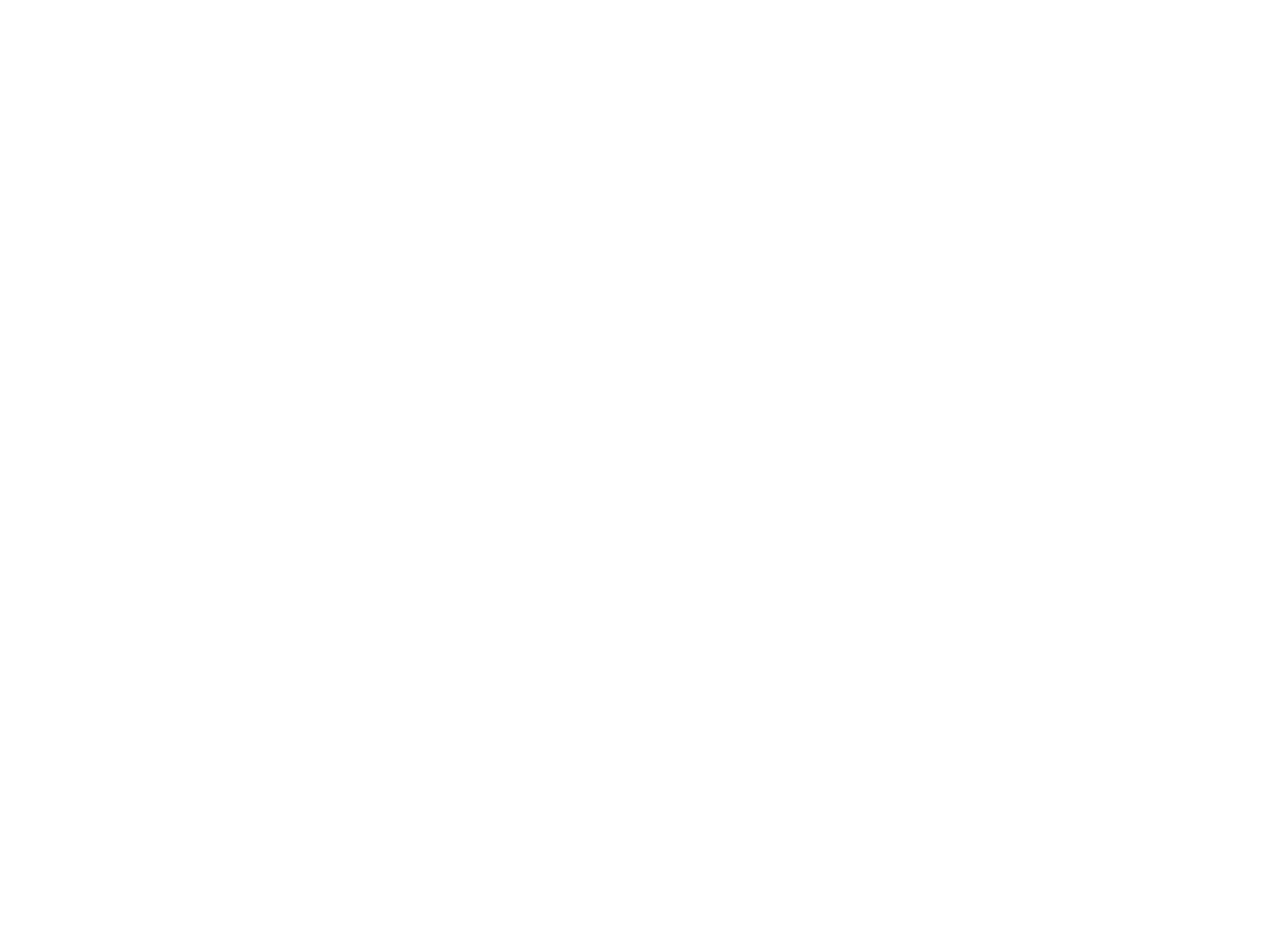
Вид на Малый Николаевский (Чудов) дворец с Колокольни Ивана Великого, фото 1896-1897 гг.
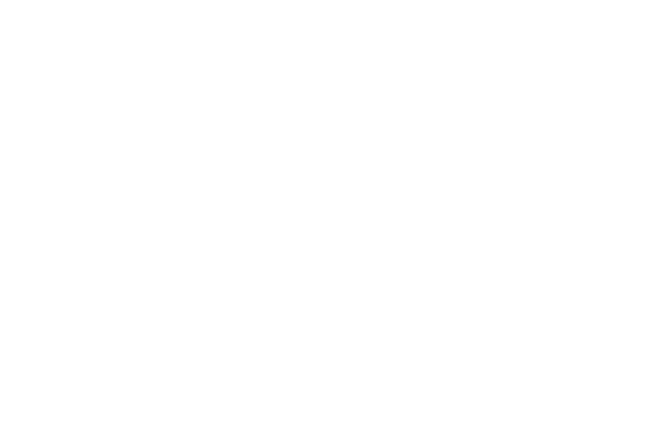
А.С. Пушкин, И.Е. Вивьен, 1826 г.
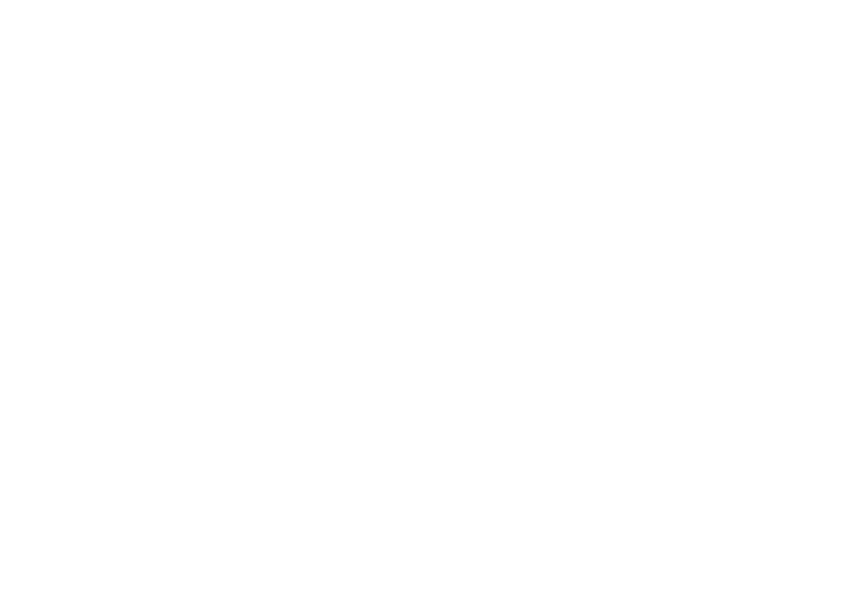
Николай I, К.З. Вальтер, 1827 г., Эстонский художественный музей, Таллин
Я напомню, дорогие друзья, что в то время Пушкину было двадцать семь лет, а Государю Императору — тридцать лет. С нашей точки зрения они были ещё юноши, но, тем не менее… Беседа Пушкина с Николаем Павловичем была описана самим Царём барону Корфу, который через много лет, в 1848 году, и зафиксировал её письменно:
«Я, — говорил Государь, — впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву совсем больного… Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге? — спросил я его, между прочим. — Стал бы в ряды мятежников, — отвечал он. На вопрос мой, переменился ли его образ мыслей и даёт ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчёт 14 декабря, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку, с обещанием сделаться другим». [М.А. Корф. Записки. Рус. Стар., 1900, т. 101, стр. 574]
По словам Пушкина, Николай, между прочим, сказал поэту: «Довольно ты подурачился, надеюсь, теперь будешь рассудительным, и мы более ссориться не будем».
Тогда же, во время встречи с Императором, прямо при Николае Павловиче, Пушкин написал стансы, которые он назвал «Пётр Великий - Николай I». Все мы знаем эти стихи:
Тогда же, во время встречи с Императором, прямо при Николае Павловиче, Пушкин написал стансы, которые он назвал «Пётр Великий - Николай I». Все мы знаем эти стихи:
В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой.
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.
[А.С. Пушкин. Полн.собр.,1954. Т. 7. С.273]
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой.
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.
[А.С. Пушкин. Полн.собр.,1954. Т. 7. С.273]
30 сентября 1826 года Бенкендорф сообщил Пушкину волю Императора: «Сочинений Ваших никто рассматривать не будет. Государь Император сам будет первым ценителем произведений Ваших и цензором». В связи с этим Пушкин писал «К друзьям»:
«В изгнанье жизнь моя текла,
влачил я с милыми разлуку,
но он мне царственную руку
простер, — и с вами снова я.
Во мне почтил он вдохновенье,
освободил он мысль мою».
К этому стихотворению мы ещё вернёмся.
влачил я с милыми разлуку,
но он мне царственную руку
простер, — и с вами снова я.
Во мне почтил он вдохновенье,
освободил он мысль мою».
К этому стихотворению мы ещё вернёмся.
Но между Императором и Поэтом встал Александр фон Бенкендорф, равнодушный и даже очень нелюбивший литературу и свободное просвещение.
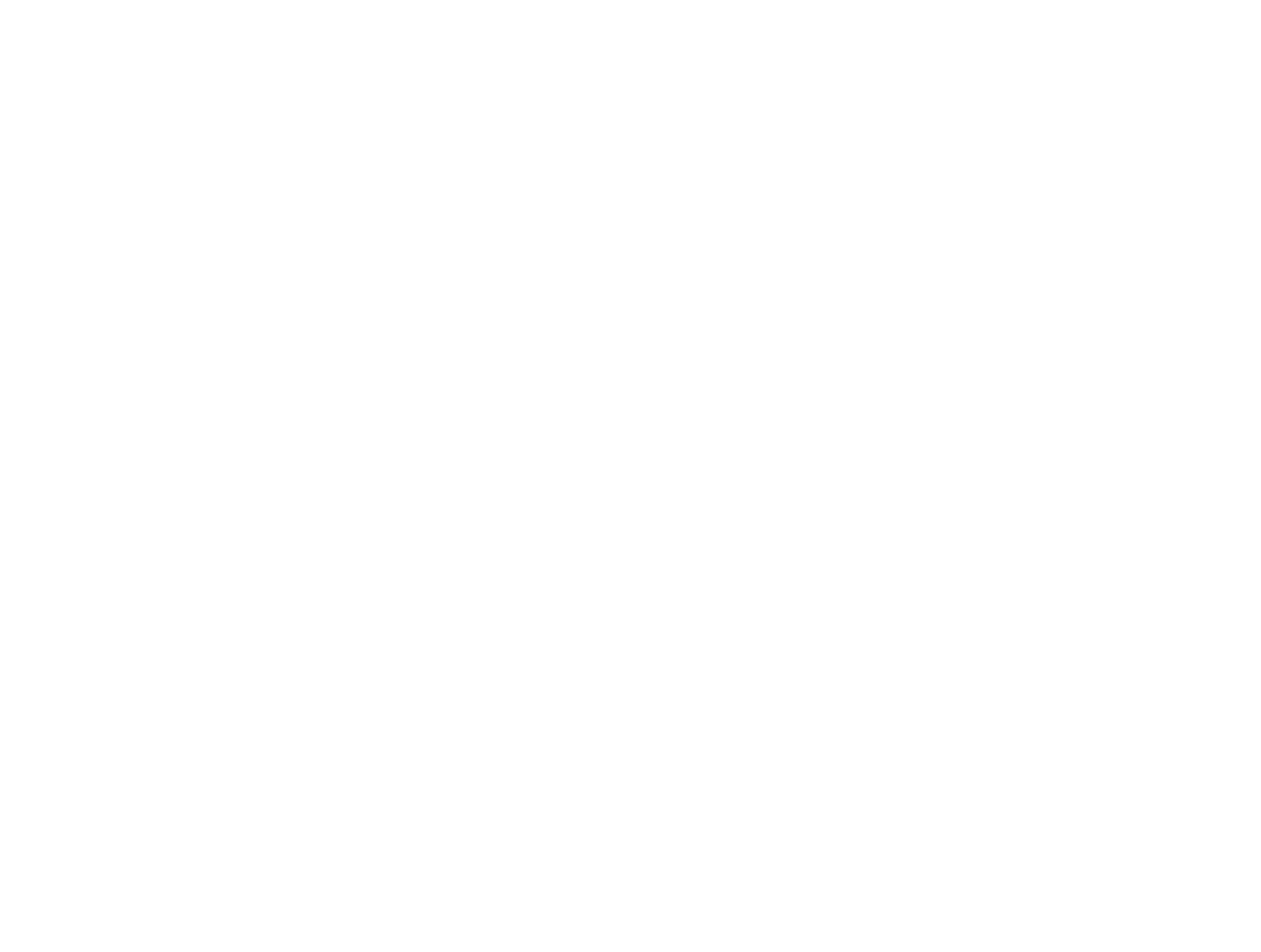
А.Х. Бенкендорф, П.Ф. Соколов, 1835 г.
Острая на язык петербургская красавица Александра Осиповна Россет, в замужестве Смирнова, умница и друг умнейших людей России, писала об этом качестве Бенкендорфа. Кстати говоря, в Александру Осиповну был страстно влюблён наш с вами знакомый Александр Иванович Кошелёв, да и многие другие. А Пётр Вяземский в своей Старой записной книжке писал о ней: «Все мы, более или менее, были военнопленными красавицы; кто более или менее уязвленный, но все были задеты и тронуты. Кто-то из нас прозвал смуглую, южную, черноокую девицу (Алекснадре Россет было на тот момент восемнадцать лет — А.З.) Donna Sol — главною действующею личностью испанской драмы Гюго. Жуковский, который часто любит облекать поэтическую мысль выражением шуточным и удачно-пошлым, прозвал её «небесным дьяволёнком». Кто хвалил ее чёрные глаза, иногда улыбающиеся, иногда огнестрельные; кто — стройное и маленькое ушко, эту аристократическую женскую примету, как ручка и как ножка; кто любовался её красивою и своеобразною миловидностью». [П.А. Вяземский. Старая Записная книжка, 1927. Запись 138]
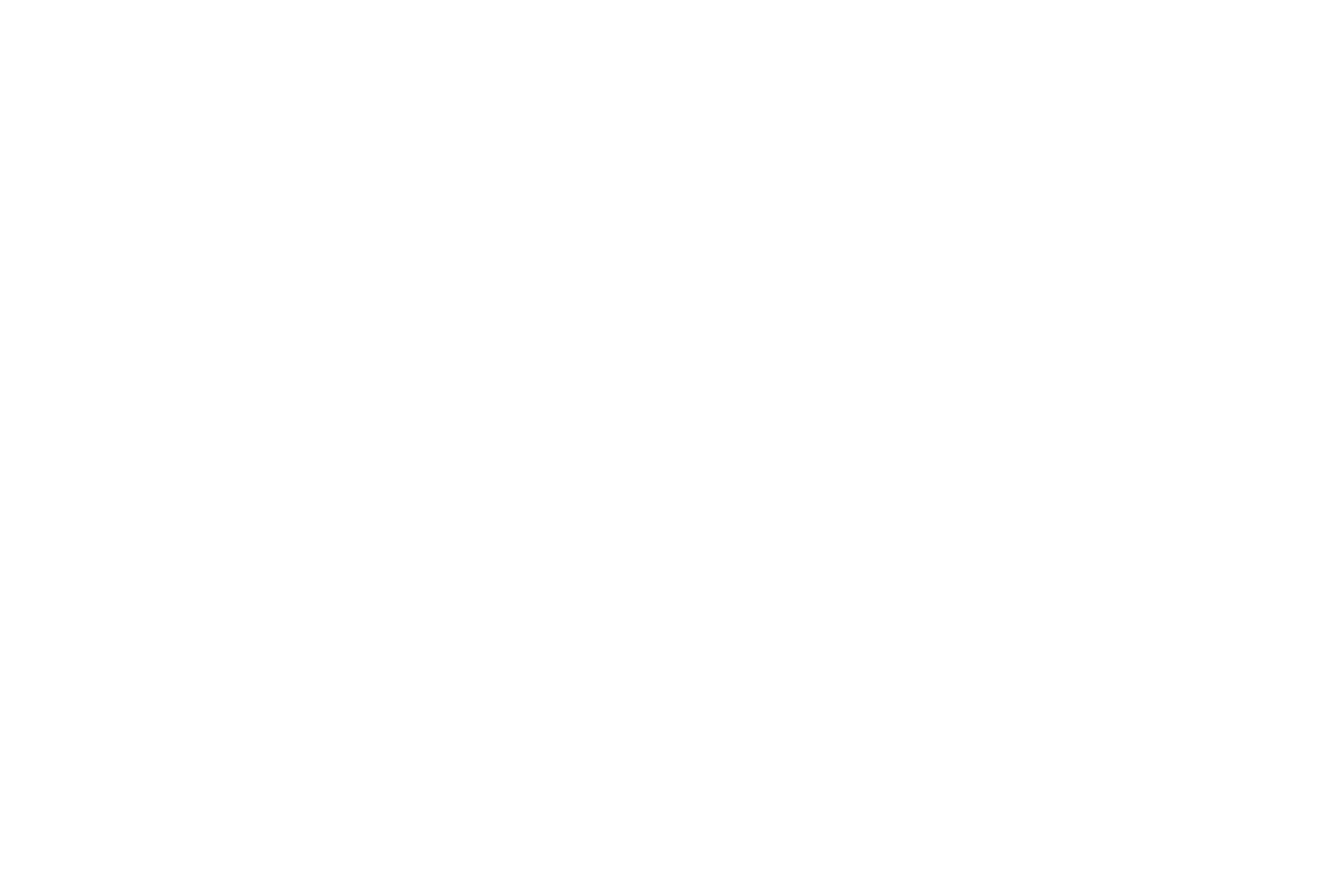
А.О. Россет (Смирнова), П.Ф. Соколов, 1834-1835 гг.,
Всероссийский музей А.С.Пушкина, Санкт-Петербург
Всероссийский музей А.С.Пушкина, Санкт-Петербург
Вот что Россет говорила о Бенкендорфе: «Мне кажется, что ему хотелось бы совсем упразднить русскую литературу, он считает себя sehr gebildet» (хорошо образованным). То есть может и без литературы обойтись. Но, как вы помните, Пушкину Бенкендорф слова Николая передал.
Однако не надо обольщаться императорским просвещенным человеколюбием. Николай Павлович, ценя Пушкина, видимо, зная о нём непосредственно от Карамзина и от того же Блудова, совсем не так относился к другим поэтам, менее известным и менее вхожим в лучшие дома.
Судьба русского молодого поэта – Александра Полежаева (на пять лет моложе Пушкина, 1804-1838) была куда более трагична. Прочтя по доносу подполковника Бибикова его поэму «Сашка», Царь тогда же, в дни коронации, велел его доставить в Москву, принудил его прочесть поэму, в которой говорилось о нравах московских студентов и их воззрениях, в присутствии его и Шишкова, а потом отправил унтер-офицером в армию, правда, поцеловав при этом в лоб. Претерпев большие страдания и телесные наказания за вольный нрав, он умер от чахотки в январе 1838 года в Лефортовском военном госпитале. Так что поэта от поэта Император отличал.
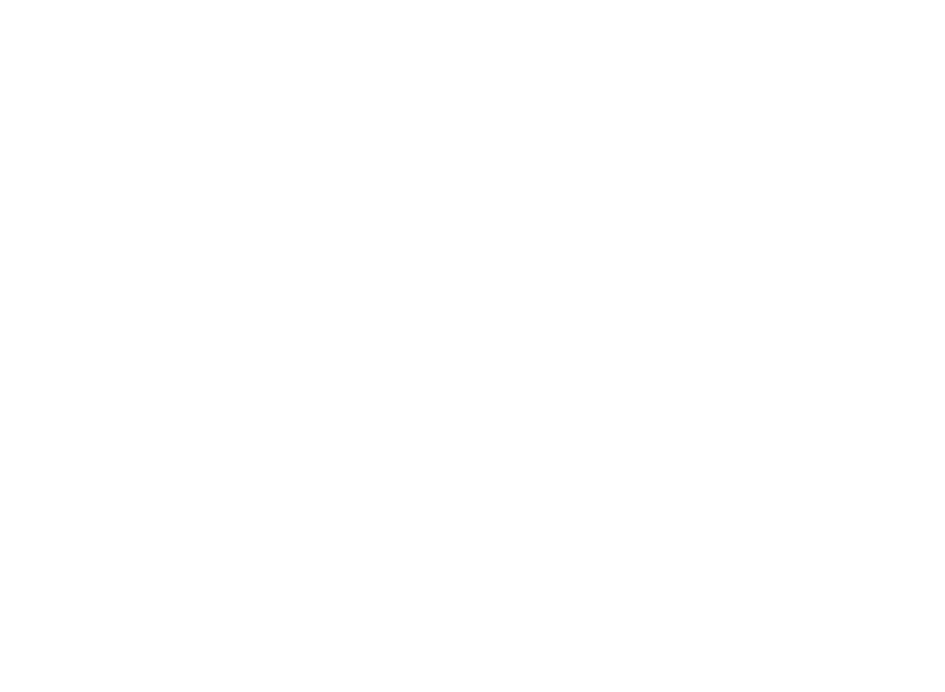
А.И. Полежаев, А.С. Ястребилов, из книги «Стихотворения А. Полежаева», Москва, 1859 г.
30 сентября 1826 года молодой Император просит через Бенкендорфа Александра Пушкина прислать ему свои «мысли и соображения… о воспитании юношества». Эта просьба звучала следующим образом: «Его Величество совершенно остается уверенным, — пишет Бенкендорф, — что Вы употребите отличные способности Ваши на передание потомству славы нашего Отечества, передав вместе бессмертию имя Ваше. В сей уверенности Его Императорскому Величеству благоугодно, чтобы Вы занялись предметом о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг, Вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить Ваши мысли и соображения; и предмет сей должен представить Вам тем обширнейший круг, что на опыте видели Вы совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания». [Н.К. Шильдер. Николай I… Т.2 с.20]
Надо сказать, что сначала Пушкин легкомысленно отнёсся к этим словам Бенкендорфа, и только после напоминания («Ну как там записка?»), в ноябре 1826 года в Михайловском в очень осторожных выражениях, но, всё же, решившись по его же словам «не пропускать такого случая, чтобы сделать добро», составил записку на Высочайшее Имя. [А.С. Пушкин. Полн. Собр. соч. Т.7. Л., 1978. С.462] В ней он так объясняет причины недавнего «возмущения» 14 декабря: «Не одно влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего отечества;… отсутствие воспитания есть корень всякого зла… Одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия». [А.С.Пушкин. Полн. Собр. соч. Т.7. С.31]
Пушкин, сам дитя Александрова царствования, сам выпускник основанного Александром и Сперанским Царскосельского лицея, всецело за развитие правильного просвещения народа. При этом он прекрасно понимает, что просвещение народа должно идти рука об руку с его гражданским и политическим освобождением, что просвещение без освобождения ведёт к революции, а освобождение без просвещения — к беспощадному русскому бунту. Не просвещать же и не освобождать общество, а держать его в темноте и рабстве, во-первых, после Александрова царствования невозможно в принципе, так как культурный и просвещённый слой уже образовался и его не уничтожить, а, во-вторых, такое насаждение обскурантизма приведёт к отставанию и одичанию России, что в частности и показали в последние годы царствования Александра I дикие выходки Магницкого и Рунича. Россия только становится культурной европейской нацией, и поэтому эксперименты по её искусственному одичанию невозможны. В конечном же счёте, если правительство прекратит, следуя своим видам, просвещать народ, то общество будет просвещать его независимо от правительства и, естественно, против правительства. Как и случилось во второй половине ХIХ века, когда возникла противоправительственная интеллигенция.
Во фрагменте «Путешествия из Москвы в Петербург», частично вымаранном из белового текста, Пушкин писал в 1833 году: «Нельзя не заметить, что со времен возведения на престол Романовых, от Михаила Федоровича до Николая I¸ правительство у нас всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно. Вот что и составляет силу нашего самодержавия. Не худо было иным европейским государствам понять эту простую истину. Бурбоны не были бы выгнаны вилами и каменьями, а английская аристокрация не принуждена была бы уступить радикализму». [А.С. Пушкин. Полн. Собр. соч. Т.7. С.437]
Мы видим, что эти слова, с одной стороны, похожи на слова Пушкина, которые он выразил в письме к Чаадаеву, а, с другой стороны, похожи на слова Бенкендорфа самому Царю. Но Бенкендорф говорил, что поэтому надо не спешить с образованием народа, а Пушкин говорит прямо противоположенное — надо спешить и надо быть впереди народа, образовывая его. То есть мы видим два принципиально разных подхода к одной и той же констатации.
Пушкин не решился довести это предупреждение до печатного станка и до самого Царя. Но оно почти бесспорно является реакцией на переданное через Бенкендорфа суждение молодого Императора по поводу записки «О народном воспитании»:
«Принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. — Сообщал граф Бенкендорф поэту слова Царя и объяснял далее положительное убеждение Николая Павловича. — Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание». [А.С. Пушкин. Полн. Собр. соч. Т.7. С.462]
То есть, как мы видим, Николай Павлович попросил мнение Пушкина, а в итоге, как это часто бывает, сам преподал Пушкину урок, как надо поступать с образованием.
К тому времени, когда Пушкин получил Высочайший заказ на составление записки «О народном воспитании», Николай уже, по всей видимости, знал, что ему надо делать в системе образования. От поэта он ждал подтверждения своим мыслям. Не дождался — «вымыл голову» Пушкину — и от старой Александровой системы образования повелел отказаться решительно. А Пушкина, к его радости, оставил стихотворцем, не переводя в чиновники, хотя из записок Вульфа мы знаем, что поэт опрометчиво мечтал и о службе. Но, «Бог упас».
В том же стихотворении «К друзьям», Пушкин говорит о «льстеце», скорее всего имея в виду именно графа фон Бенкендорфа, наперсника Николая, который передал поэту слова Государя:
«Льстец лукав:
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.
Он скажет: презирай народ,
Глуши природы голос нежный,
Он скажет: просвещенья плод —
Разврат и некий дух мятежный!
Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу».
[А.С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10 т., 1959-62.Т.2. 1828]
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.
Он скажет: презирай народ,
Глуши природы голос нежный,
Он скажет: просвещенья плод —
Разврат и некий дух мятежный!
Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу».
[А.С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10 т., 1959-62.Т.2. 1828]
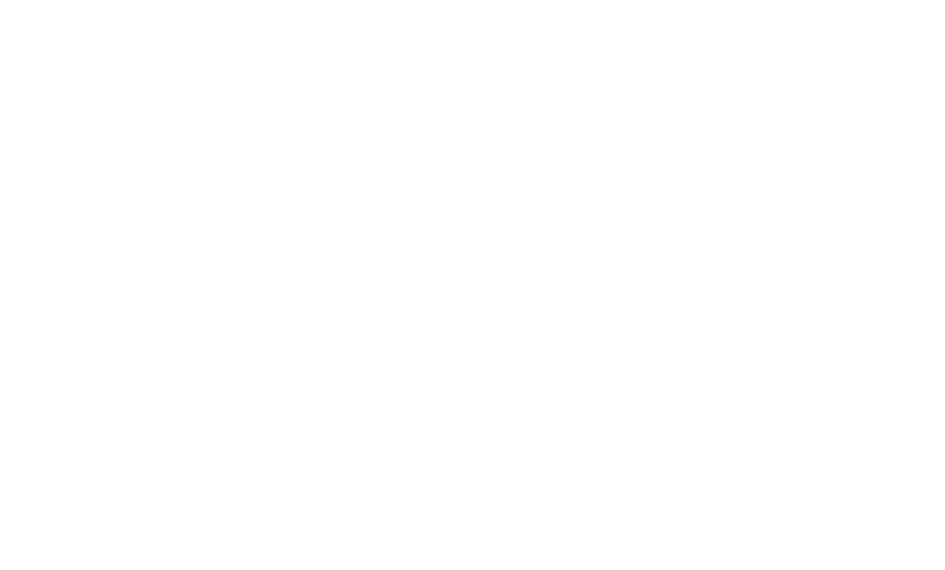
Пушкин и Бенкендорф, А. Китаев, 1950 г.
К чести Александра Сергеевича, он всё же не молчал. И одним из актов этого немолчания было настойчивое стремление издать трагедию «Борис Годунов», которую он написал ещё в конце предшествующего царствования. В 1829 или в 1830 году Пушкин посылает через Бенкендорфа эту трагедию Императору, и Николай разрешает печатать её под личную ответственность автора без предварительной цензуры. 9 января 1831 года через Бенкендорфа Николай сообщил, что читал сочинение с особым удовольствием. Пушкин отвечал: «С чувством глубочайшей благодарности удостоился я получить благосклонный отзыв Государя Императора о моей исторической драме. Писанный в минувшее царствование, «Борис Годунов» обязан своим появлением не только частному покровительству, которым удостоил меня Государь, но и свободе, смело дарованной монархом писателям русским в такое время и в таких обстоятельствах, когда всякое другое правительство старалось бы стеснить и оковать книгопечатанье». [Н.К. Шильдер. Николай I… Т.2 с.21]
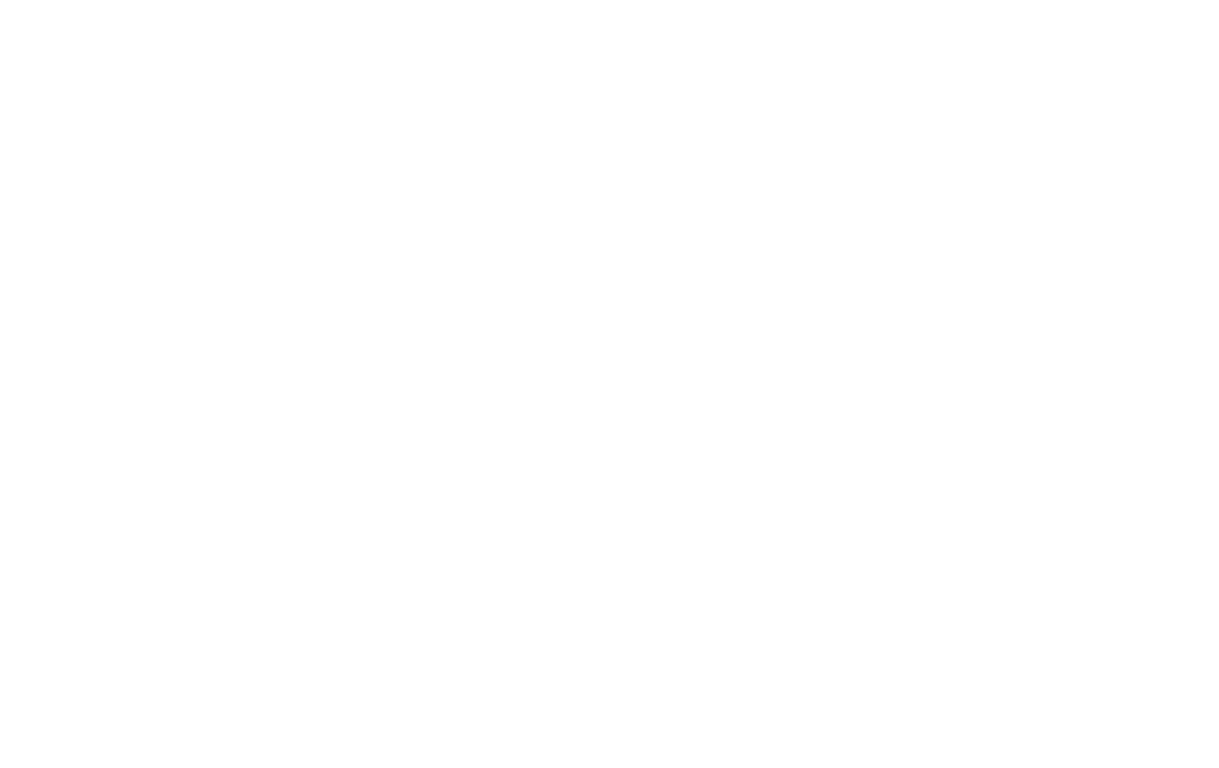
А.С. Пушкин, «Борис Годунов», последняя страница черновой рукописи / pushkin-lit.ru
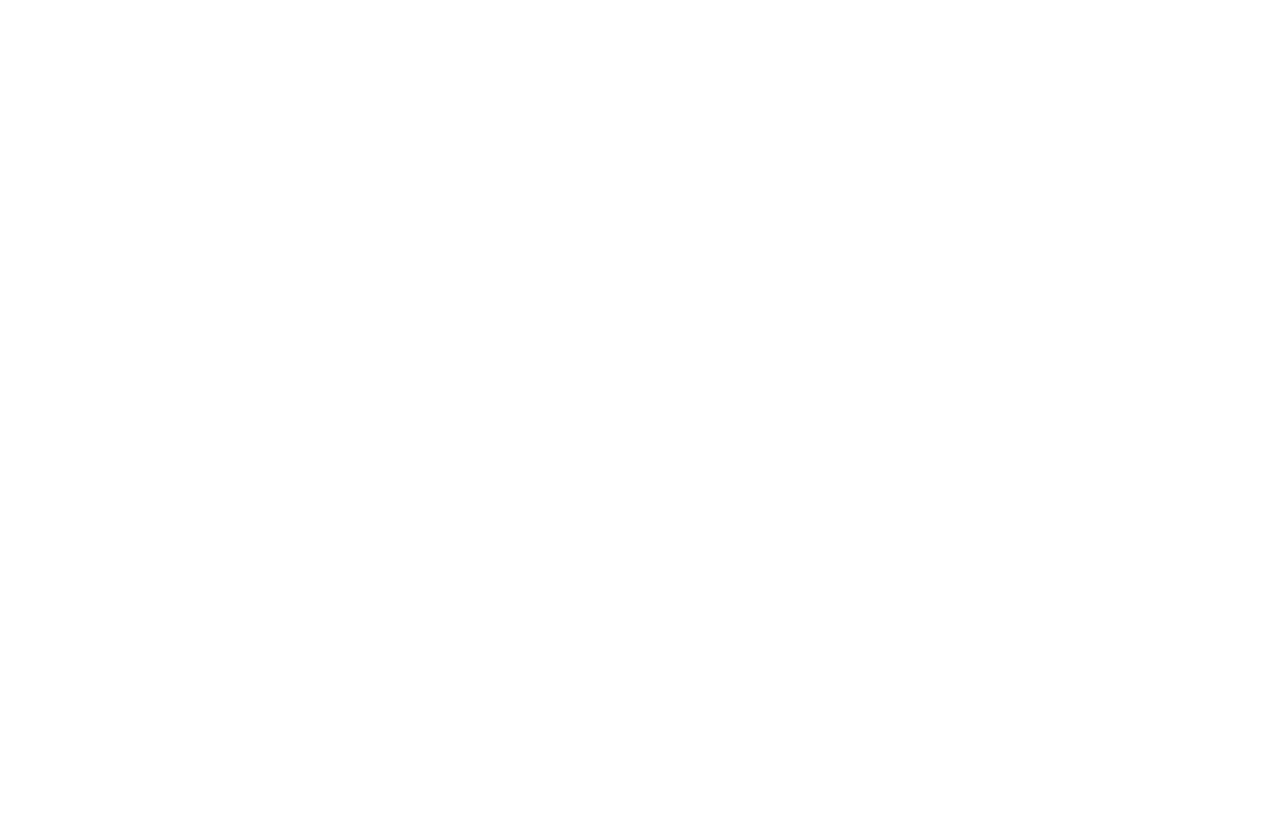
А.С. Пушкин, «Борис Годунов», СПб: В Тип. Департамента Народного Просвещения,
1831 г. / litfund.ru
1831 г. / litfund.ru
Что касается времени и обстоятельств, то речь идёт, конечно, о 1830 годе — об эпохе революций, о польско-русской войне, о свержении старшей линии Бурбонов во Франции. Но уже в 1831 году эти слова Пушкина звучали, скорее, как выражение надежд, нежели как констатация фактов. Да, в 1830 году свобода была, но через пару лет поэт не смог бы написать подобных слов, явственно не покривив душой. Со свободой книгопечатанья в середине тридцатых годов было практически покончено.
4. Альтернатива в образовании
В сущности, император Николай, взойдя на престол, мог или продолжить развитие образования по системе 1804 года или вернуться к практике своей бабки Екатерины, внедрявшей европейское образование для детей дворян и купцов, и, одновременно, державшей в невежестве простонародье. Николай Павлович сам был свидетелем толпы зевак на Сенатской площади в роковой день 14 декабря.
В сущности, император Николай, взойдя на престол, мог или продолжить развитие образования по системе 1804 года или вернуться к практике своей бабки Екатерины, внедрявшей европейское образование для детей дворян и купцов, и, одновременно, державшей в невежестве простонародье. Николай Павлович сам был свидетелем толпы зевак на Сенатской площади в роковой день 14 декабря.
Как вы помните, из этой толпы раздавались порой угрожающие крики и летели в верные ему войска камни и поленья. А если бы толпа эта, состоящая из кучеров, дворовых, мастеровых соединилась с мятежниками? А если бы, как во Франции в 1789 году, солдаты тоже пожелали бы отмены дворянских привилегий и провозглашения конституции, если бы поняли и приняли то, к чему их призывали все эти Рылеевы и Кюхельбекеры? Если бы малороссы Киевской губернии и солдаты других, расквартированных на Украине полков, присоединились бы к полку Черниговскому, когда тот шёл от Василькова к Белой Церкви под командованием Сергея Муравьёва-Апостола «восстановить правление народное» и «уничтожить рабство и крепостное состояние навсегда»? Что помогло победе правительства? Невежество народной массы или сознательная верность граждан своему законному Императору? О невежестве народа Николай знал точно, сознательной же верностью народа, скорее всего, не обольщался. И потому, для упрочения чуть было ни выпавшей из рук Романовых власти, он принимает решение всецело изменить систему народного просвещения. Изменить так, чтобы народ более не просвещать вовсе.
Вскоре после декабрьского мятежа Николаю Павловичу поступил донос на того самого генерала Николая Николаевича Муравьёва и его крестьянскую школу.
В анонимной записке, переданной через графа Бенкендорфа в 1826 году Николаю Павловичу, говорилось: «Известно ли Вашему Императорскому Величеству, что отставной артиллерии генерал-майор Николай Муравьёв, учредитель бывшей в Москве школы колонновожатых, имеет ныне в здешней (т.е. Московской) губернии Рузского уезда в деревне своей другое заведение, в коем 60 крестьянских детей воспитываются столь хорошо, что в течение четырех лет могут быть управителями имений. По слухам Муравьёв намеревается теперь распространить ещё сие заведение. Но, сообразив известные последствия от прежней его школы (школы колонновожатых, два десятка выпускников которой стали декабристами — А.З.), не благоугодно ли будет Вашему Величеству приказать подробно и с точностью рассмотреть сие новое крестьянское Муравьёва заведение, ибо оное, действуя на многочисленнейший класс народа, может быть в будущем гораздо опаснее первой его школы». [Военно-ученый архив, Отдел 1, №1048] На доносе рукой Императора — «Не мешает узнать».
10 июля 1827 года Царь, по настоятельному совету Бенкендорфа, повелел графу Виктору Кочубею рассмотреть в Государственном Совете вопрос об ограничении крестьянского образования. Вот прямая цитата из указа: «Дабы Государственный Совет постановил закон, чтобы крепостные дети отнюдь не были отдаваемы для воспитания в такие учебные заведения, в коих они могли получить образование, превышающее состояние их и чтобы были обучаемы в приходских училищах… не развивая мысли о выходе из того состояния, в котором они (крестьяне – А.З.) находились». [Н.К. Шильдер. Николай I… Т.2 с.34]
Начальные сельские школы отрывались по мысли указа от уездных училищ и гимназий, а эти последние – от университетов. Система образования теперь предполагала не отбор самых способных граждан из всех сословий и доведение их до университетской скамьи, как закон 1804 года, но образовательную, как мы бы сказали, сегрегацию. Низшие податные сословия теперь оставлялись с минимальным образованием или вообще без оного, а в гимназию, с перспективой поступления в университет, принимались только дети дворян и чиновников.
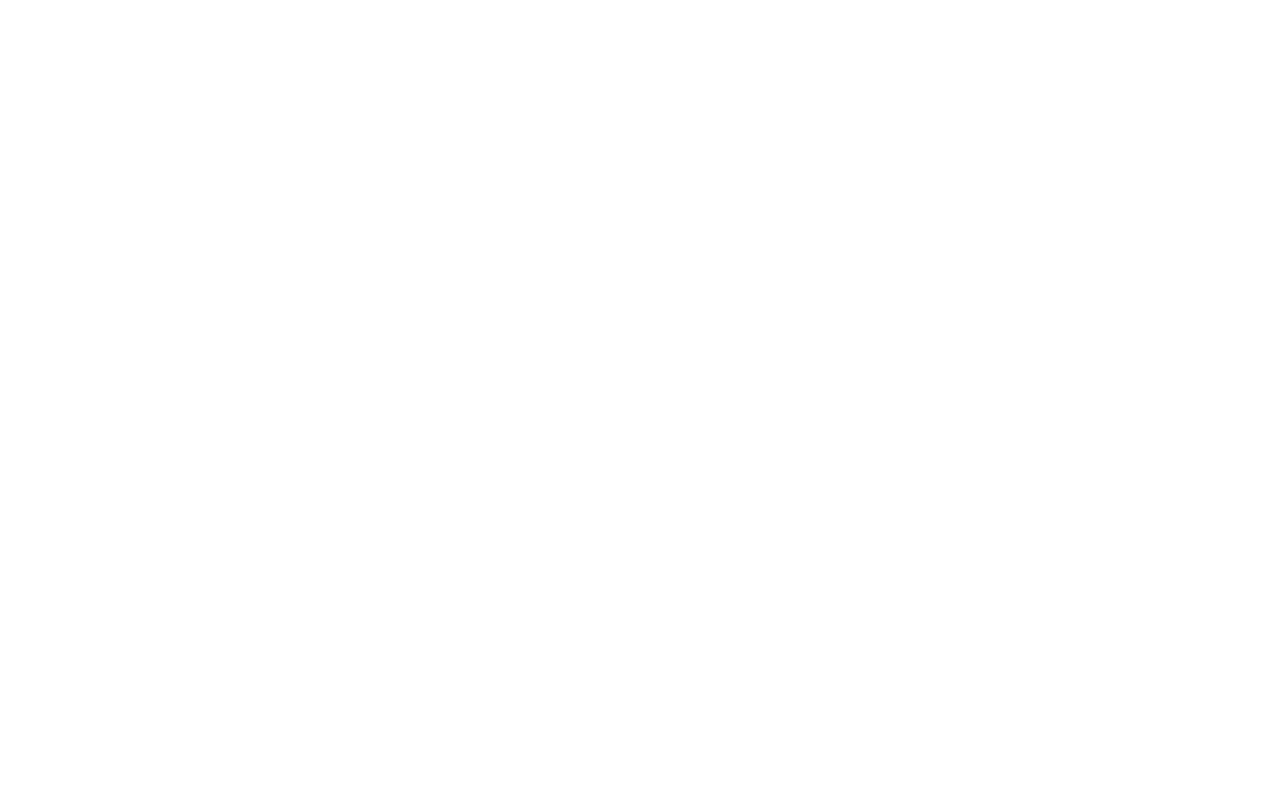
Два крестьянских мальчика со змеем, А.Г. Венецианов, 1820-е г.,
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
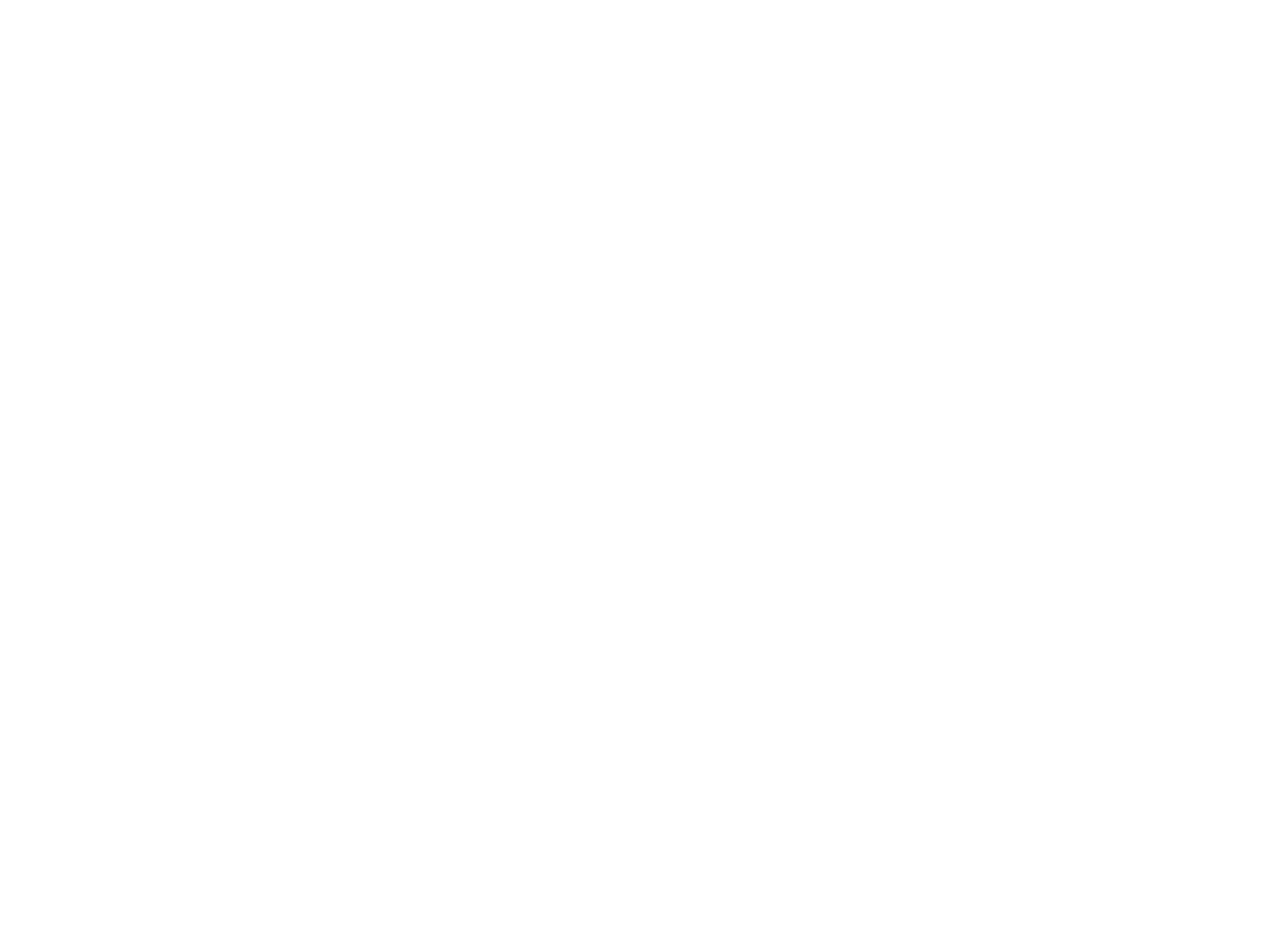
Портрет детей Олсуфьевых, Т.А. Нефф, 1842 г.,
Козьмодемъянский художественно-исторический музей имени А.В. Григорьева
Козьмодемъянский художественно-исторический музей имени А.В. Григорьева
Поразительно, но идеям русского царя Николая Павловича оказались сто лет спустя очень близки планы Гитлера по освоению российских пространств. В комментарии к эссе Арнольда Джозефа Тойнби «Лекция Гитлера» из его книги «Пережитое. Мои встречи» русский учёный Дмитрий Эдуардович Харитонович пишет: «По более или менее официальным германским планам послевоенного устройства мира… на оккупированных территориях СССР вплоть до Урала предполагалось создать несколько особо управляемых округов (рейхскомиссариатов). Эти округа должны были служить объектом немецкой колонизации с наделением колонистов крупными земельными участками безвозмездно. Местное население, очищенное, разумеется, от ˝еврейского элемента˝, должно было являться практически бесплатной рабочей силой на фактически рабском положении. Дабы удержать это население в покорности, предполагалось лишить его всякого образования (советская научная и творческая интеллигенция подлежала полному истреблению), разве что предполагаемые надсмотрщики (лица с некоторой долей ˝арийской крови˝) могли окончить начальную школу». [Д.Э. Харитонович. В книге А.Дж. Тойнби. Пережитое, Мои встречи. М.: Айрис-пресс, 2003. С.659]
Какое же было отношение к русскому народу Императора, если его планы общественного устроения почти не отличались от безумных фантазий чужеземных завоевателей? Помните, как маркизу де Кюстину Николай говорил, что он, Николай, не достоин русского народа? Так вот маркизу он говорил одно, а делал он прямо противоположное.
Должно быть шокированный этим распоряжением, председатель Государственного Совета Виктор Кочубей, когда-то обсуждавший с молодым Александром перспективы учреждения республики в России, теперь со стыдом советовал императору Николаю провести решение об ограничении прав крестьян на образование не государственным указом, а рескриптом на имя министра народного просвещения Шишкова. «Я смею думать, — пишет Кочубей, — что такое распоряжение и потому было бы удобнее, что оно произвело бы менее огласки. Закон, Советом изданный, сделался бы всей Европе известным, произошли бы разные толки и прочее, и хотя мы находимся в особом положении от других европейских держав по внутренним нашим установлениям, однако ж не можно презирать мнение оных, ни мнение внутри самого государства; наипаче должно стремиться основать оное, сколько можно лучше, при начале царствования, большие надежды в подданных породившего». [Дело о воспрещении обучать крепостных детей высшим наукам. 1827 г., Архив канцелярии Военного министерства]. Вообще характерно, что в Архиве канцелярии Военного министерства всё это дело называется «делом о воспрещении обучать крепостных детей высшим наукам»…
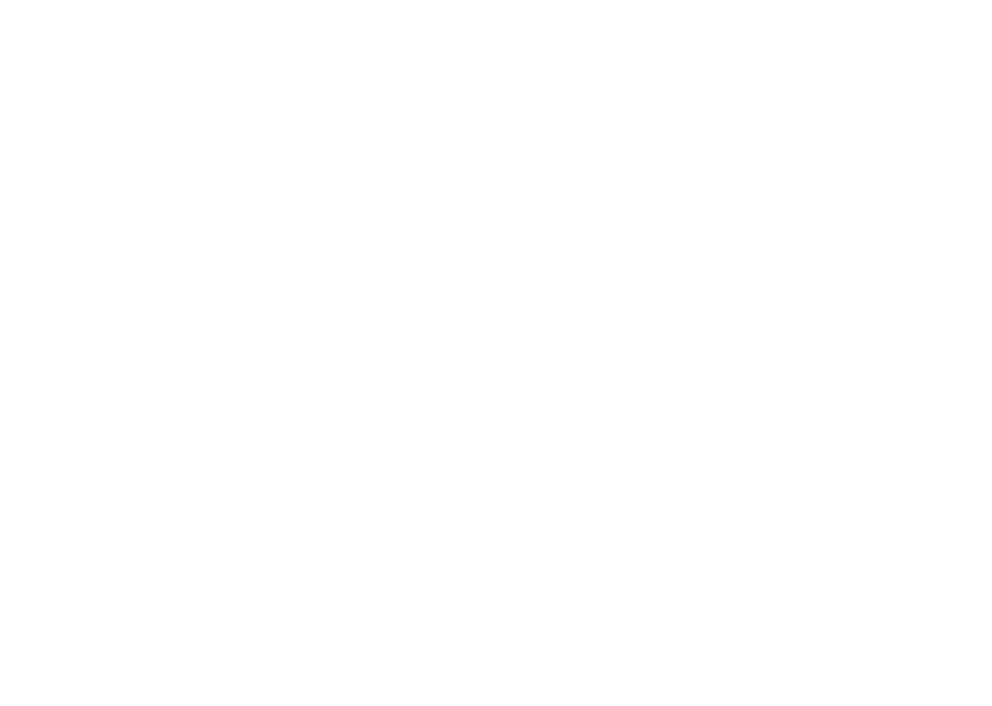
В.П. Кочубей, К. Гампельн, 1832 г.
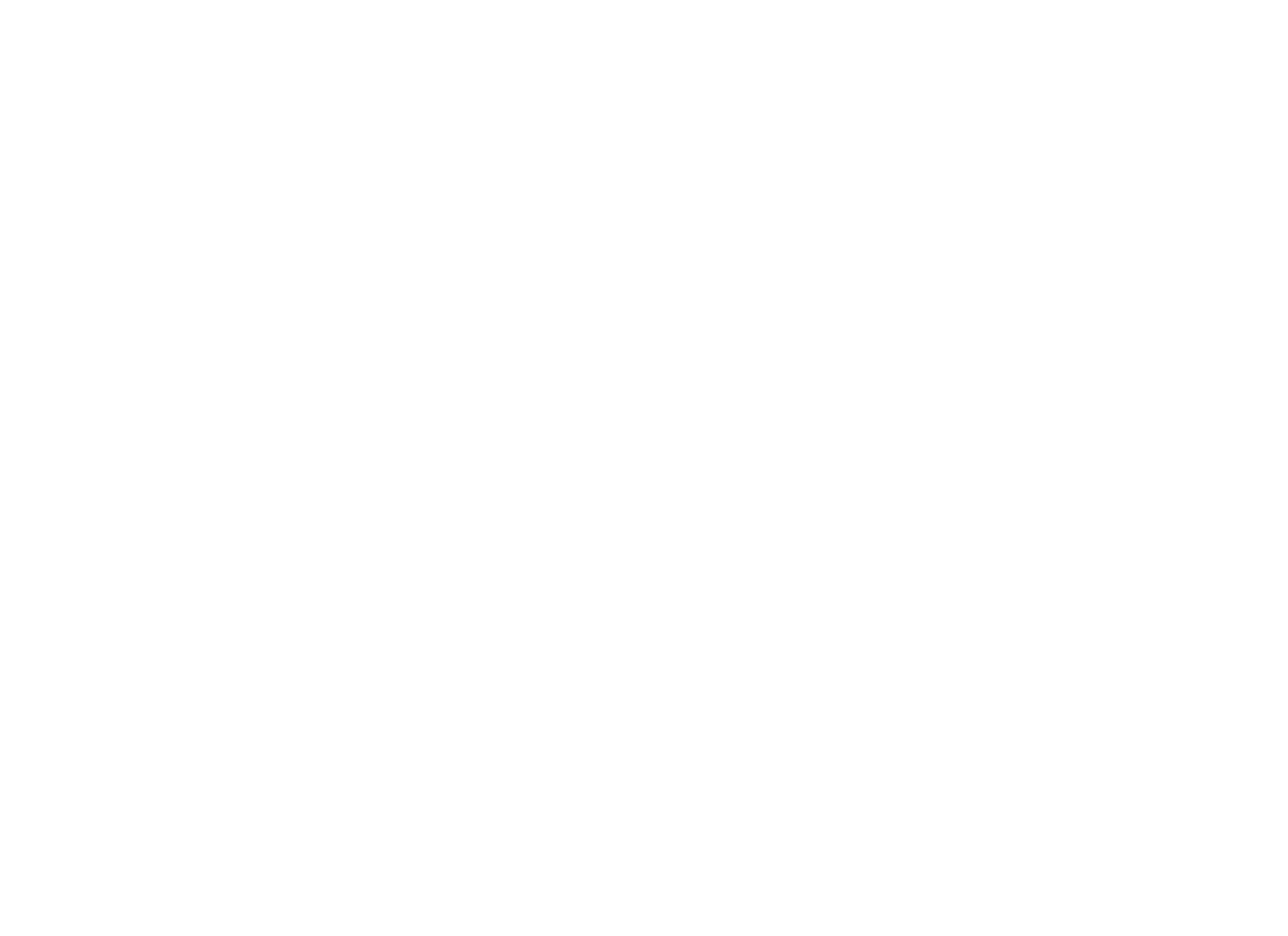
А.С. Шишков, «Современники, собрание литографических портретов…», А.Г. Гиппиус, СПб, 1822 г.
Как вы понимаете, граф Кочубей прекрасно видел, что новый образовательный проект Императора безнравственен и постыден в глазах «просвещённой Европы», и он, опытный министр, таким иносказательным языком пытался образумить молодого монарха. Но — безуспешно. Государь воспользовался советом Кочубея только в отношении оформления документа. Не указ, а рескрипт министру просвещения. «Мнение графа Кочубея совершенно согласно с моим, — начертал на записке председателя Госсовета Император, — я не выразил довольно en detail класс учебных заведений, в который принимать крепостных полагаю; надо велеть С.С. Блудову изготовить проект указа министру народного просвещения, в коем подробно изложить сей предмет».
Рескрипт министру Александру Семеновичу Шишкову был дан в мае 1827 года. И, несмотря на то, что я уже упоминал его раньше, его стоит процитировать целиком, настолько он характерен:
«Александр Семёнович! Вам известно, что, почитая народное воспитание одним из главнейших оснований благосостояния державы, от Бога мне вручённой, я желаю, чтоб для оного были постановлены правила, вполне соответствующие истинным потребностям и положению государства. Для сего необходимо, чтоб повсюду предметы учения и самые способы преподавания были по возможности соображаемы с будущим вероятным предназначением обучающихся, чтобы каждый, вместе с здравыми, для всех общими понятиями о вере, законах и нравственности, приобретал познания, наиболее для него нужные, могущие служить к улучшению его участи, и, не быв ниже своего состояния, также не стремился чрез меру возвыситься над тем, в коем, по обыкновенному течению дел, ему суждено оставаться. <…> До сведения моего дошло, между прочим, что часто крепостные люди, из дворовых и поселян, обучаются в гимназиях и других высших учебных заведениях. От сего происходит вред двоякий: с одной стороны, сии молодые люди, получив первоначальное воспитание у помещиков или родителей нерадивых, по большей части входят в училища уже с дурными навыками и заражают ими товарищей своих в классах или чрез то препятствуют попечительным отцам семейств отдавать своих детей в сии заведения: с другой же, отличнейшие из них, по прилежности и успехам, приучаются к роду жизни, к образу мыслей и понятиям, не соответствующим их состоянию. Неизбежные тягости оного для них становятся несносны, и оттого они нередко в унынии предаются пагубным мечтаниям или низким страстям. Дабы предупредить такие последствия, по крайней мере, в будущем, я нахожу нужным ныне же повелеть:
— чтобы в университетах и других высших учебных заведениях, казённых и частных, находящихся в ведомстве или под надзором министерства народного просвещения, а равно и в гимназиях и в равных с оными по предметам преподавания местах, принимались в классы и допускались к слушанию лекций только люди свободных состояний, не исключая и вольноотпущенных, кои представят удостоверительные в том виды, хотя бы они не были еще причислены ни к купечеству, ни к мещанству и не имели никакого иного звания;
— чтобы помещичьи крепостные поселяне и дворовые люди могли, как и доселе, невозбранно обучаться в приходских и уездных училищах и в частных заведениях, в коих предметы учения не выше тех, кои преподаются в училищах уездных;
— чтоб они также были допускаемы в заведения особенного рода, кои учреждены или впредь будут учреждаемы казною и частными людьми для обучения сельскому хозяйству, садоводству и вообще искусствам, нужным для усовершенствования или распространения земледельческой, ремесленной и всякой иной промышленности, но чтобы и в сих заведениях те науки, которые не служат основанием или пособием для искусств и промыслов, были преподаваемы в такой же мере, как и в уездных училищах.
— чтоб они также были допускаемы в заведения особенного рода, кои учреждены или впредь будут учреждаемы казною и частными людьми для обучения сельскому хозяйству, садоводству и вообще искусствам, нужным для усовершенствования или распространения земледельческой, ремесленной и всякой иной промышленности, но чтобы и в сих заведениях те науки, которые не служат основанием или пособием для искусств и промыслов, были преподаваемы в такой же мере, как и в уездных училищах.
<…> Комитет устройства учебных заведений не оставит с своей стороны заняться изысканием средств, чтобы в уездные училища ввести курс учения, достаточный для воспитания людей нижних состояний в государстве, стараясь в особенности обогащать их теми сведениями, кои, по образу жизни их, нуждам и упражнениям, могут быть им истинно полезны». [Н.К. Шильдер. Николай. Т.2. с.34-35]
Это фундаментальный рескрипт, поэтому я и позволил себе его прочесть. 19 августа он был подтверждён, как особо важная мера, Императорским указом — детям крепостных крестьян отныне воспрещено поступать в гимназии и университеты. Вскоре, 28 декабря 1828 года, был отменен устав 1804 года и утверждён новый устав народных училищ и гимназий, по которому уездные и городские училища более не считались подготовительной ступенью к гимназическому образованию. В гимназиях теперь учреждались собственные подготовительные классы, а училища объявлялись самостоятельной и достаточной формой образования.
План 1828 года полностью воплотился в жизнь и принёс свои горькие плоды. Народ, просвещение которого началось в последние годы Александрова царствования, теперь возвращаем был в невежество. Формально начальная школа для крепостных, как мы видим, не запрещалась, но помещики и при Александре большей частью вовсе не желали иметь своих крестьян грамотными, а чиновники в России всегда умели следовать не букве закона, а желанию власти.
Как и предполагалось при введении учебного устава декабря 1828 года, — гимназия и университет превратились в сословные учебные заведения для детей дворян и чиновников. В результате, даже перед самым концом крепостного права, в 1850-е годы, после успешного реформирования графом Киселёвым быта государственных крестьян, выходцы из крестьянского сословия, как вы помните из предшествующей лекции, составляли всего 2-3 процента учащихся мужских гимназий и 1,6 процента студентов университетов, в то время как доля крестьян в населении Европейской России (без Польши и Финляндии) в 1858 году была 82,6 процента. Дворяне же, составляя 1,5 процента населения, давали 78,3 процента гимназистов (1843 год) и 65,3 процента студентов университетов (1855 год). [Б.Н. Миронов. Социальная история России. Т.1, Спб,2000. С.130;139, табл.II,19;II,22]
Ограничение крестьянского образования было первой и, как казалось Николаю Павловичу, самой неотложной мерой администрации в области народного просвещения. Первой, но не единственной. Генеральная цель политики в этой области была — готовить верных слуг Царя во всех сословиях Империи. Историк Корнилов указывает: «Во главу угла здесь положено было убеждение в необходимости давать каждому сословию просвещение в такой мере, чтобы не развивалось надежд и стремлений возвыситься из одного сословия в другое». [А.А. Корнилов. Курс истории России XIX века. Москва, 2004. С.300-301]
Принцип, высказанный со слов Царя Бенкендорфом Пушкину — «Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному», — воплощался в жизнь твёрдо и последовательно, с одной, впрочем, существенной оговоркой — «неопытное просвещение» русская государственная власть вовсе не старалась сделать «опытным», она его просто заменяла прилежным служением при максимально возможно узком кругозоре. «Поменьше рассуждений — побольше усердия» — стало лозунгом этого царствования.
Бенкендорф, вспоминая результат этой реформы и в целом начало нового царствования, когда старые религиозные принципы Александра были отменены, пишет: «Все оживились, веселость снова вступила в свои права, и вознаграждает себя за годы, утраченные для её культа. Молодежь снова принимается за танцы, и уже значительно менее занимается устройством государства, политикою обоих полушарий и мистическими бреднями». [Н.К. Шильдер. Император Николай I… Т. 2. С.12]
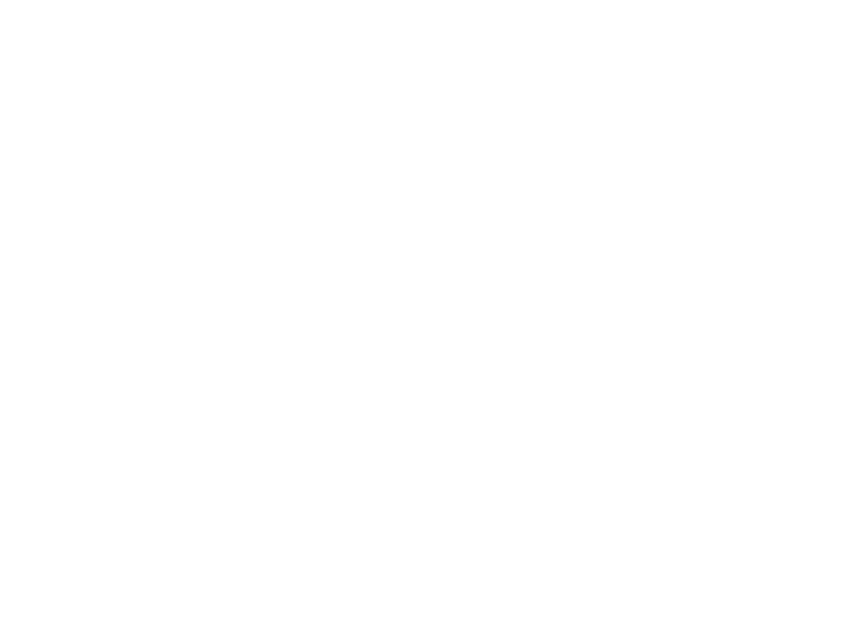
Костюмированный бал в Зимнем дворце при императоре Николае I, Б. (Г.) П.Виллевальде,
нач. 1830-х гг. / rusmuseumvrm.ru
нач. 1830-х гг. / rusmuseumvrm.ru
В записках Модеста Корфа есть множество описаний совершенно феерических придворных балов и вполне соперничавших с ними по богатству, многолюдству и великолепию празднеств и пиршеств во дворцах высшей петербургской знати в течение всей Николаевской эпохи. Этому веселому кружению светской жизни не могли помешать ни военные кампании, ни даже холерные эпидемии. Молодёжь больше не думала «о политике обоих полушарий», она думала о веселье. Это была мечта Николая Павловича. Эта мечта, кстати говоря, отразилась в сценах из «Чумного города» Джона Вильсона, которые перевёл Александр Пушкин осенью 1830 года в Болдине, вдохновляясь отечественной действительностью, и которые известны нашему читателю как «Пир во время чумы». Мечта — веселиться, когда вокруг чума, и не только холерная, но и политическая.
5. Чугунная цензура
Дабы вопросы государственно-политические и «мистические бредни» вовсе выветрились из голов образованного слоя, император Николай Павлович, сразу же по восшествии на престол, упраздняет старый цензурный устав 1804 года и вводит новый. Александровский цензурный устав, в сравнении с нормами, действовавшими тогда в других европейских государствах, был исключительно либерален. Объясняя мотивы его принятия, министр народного образования писал в докладе, что цензура вводится «не для стеснения свободы мыслить и писать, а единственно для принятия пристойных мер против злоупотребления оной». [С.Г. Пушкарёв. Россия в 1801-1917 гг… С.108]
Дабы вопросы государственно-политические и «мистические бредни» вовсе выветрились из голов образованного слоя, император Николай Павлович, сразу же по восшествии на престол, упраздняет старый цензурный устав 1804 года и вводит новый. Александровский цензурный устав, в сравнении с нормами, действовавшими тогда в других европейских государствах, был исключительно либерален. Объясняя мотивы его принятия, министр народного образования писал в докладе, что цензура вводится «не для стеснения свободы мыслить и писать, а единственно для принятия пристойных мер против злоупотребления оной». [С.Г. Пушкарёв. Россия в 1801-1917 гг… С.108]
И действительно, указывая, что в книгах и периодических изданиях не должно быть ничего «противного закону Божию, правлению, нравственности и личной чести какого-либо гражданина», цензурный устав 1804 года подчёркивал, что «при оценке сочинения надо руководствоваться благоразумным снисхождением, избегая пристрастного и придирчивого толкования». «Скромное и благоразумное исследование истины пользуется совершенною свободою тиснения, возвышая успехи просвещения» — так гласил устав 1804 года.
Практика, несмотря на отдельные эксцессы, в целом соответствовала при Александре провозглашённым принципам. Особенно важно было то, что цензурный надзор был поручен самым просвещённым учреждениям Империи — университетам. Цензорами по должности становились ординарные профессора, как правило, люди широко образованные, получившие или усовершенствовавшие свое образование в лучших европейских учебных заведениях. Русское общество, наслаждаясь свободой слова и печати, постепенно взрослело и мудрело.
Декабрьское возмущение 1825 года явилось как раз пароксизмом «переходного возраста» (как и у подростка). Его надо было перетерпеть, пережить, компенсировать любовью издержки слишком быстрого, «взрывного» взросления, тем более, что «взрывной характер» взросление приобрело из-за искусственного культивирования гражданского инфантилизма в XVIII столетии. Но напуганный восстанием молодой Император, воспитанный к тому же в идеалах абсолютизма Ламздорфом, избрал охранительное решение — вырастающее в меру гражданственности общество Империи, Николай Павлович решил вновь вернуть в детство.
Именно этому и служил новый цензурный устав 10 июня 1826 года, составленный адмиралом Шишковым и князем Платоном Александровичем Ширинским-Шихматовым и сразу же получивший название «чугунного». 230 параграфов этого устава являли собой полную противоположность и по духу, и по букве 47 параграфам устава 1804 года. «Благоразумное снисхождение» сменилось въедливым выискиванием «тайного революционного разумения». Цензор, писатель и журналист Сергей Николаевич Глинка говорил, что по этому уставу и «Отче наш» можно истолковать «якобинским наречием».
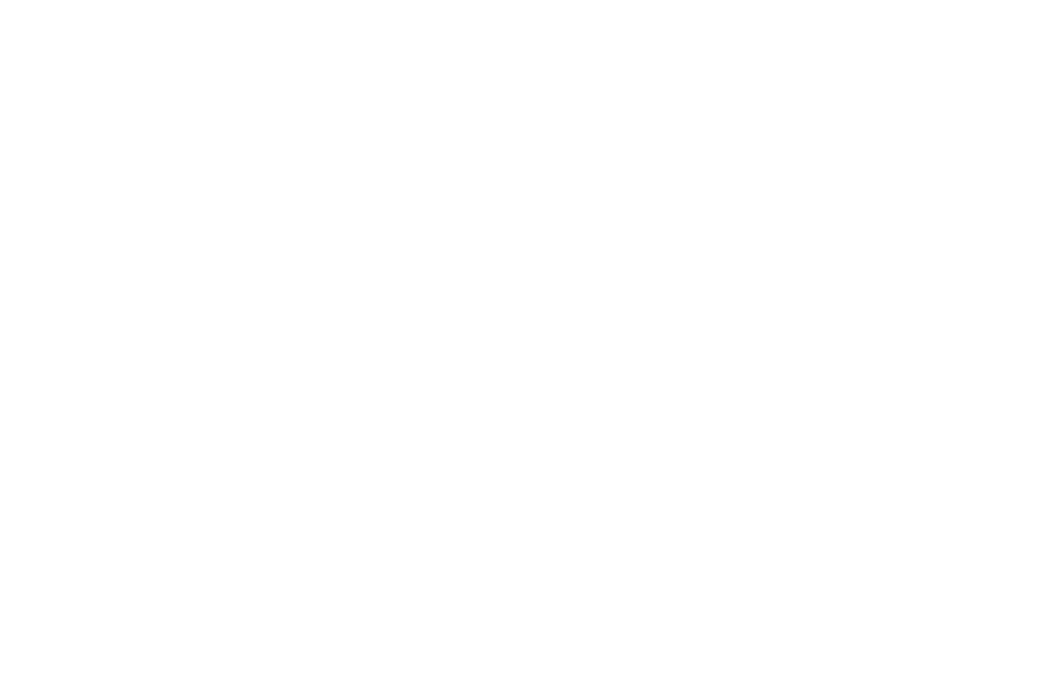
П.А. Ширинский-Шихматов, неизвестный автор, 1840 г.
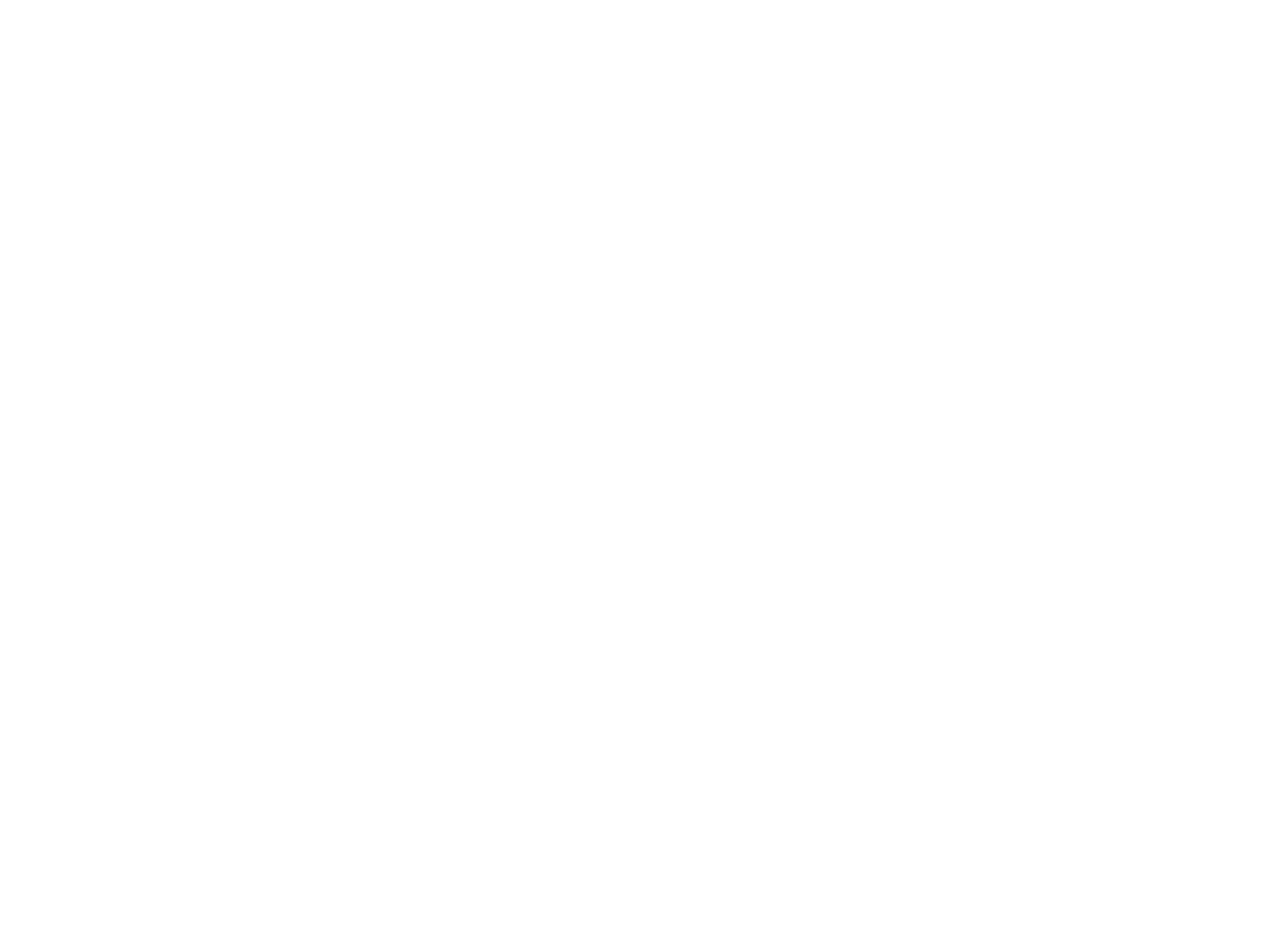
С.Н. Глинка
Немного оправившись после декабрьского возмущения, желая вернуться к культурной политике Александра Павловича, император Николай 22 апреля 1828 года издал указ, смягчивший цензурные положения 1826 года, чтобы книгопечатанию опять была дана некая свобода. Новый устав требовал, между прочим, чтобы цензоры не искали иносказаний, а принимали во внимание только явный смысл речи. То есть Николай, безусловно, желая отсечь от образования низшие сословия, в отношении высших сословий пока хотел вернуться к культурному образованию эпохи его старшего брата. Отсюда и отставки Рунича и Магницкого, и привлечение Пушкина. Всё это происходило как раз в короткий период между 1827 и 1830 годом, годом революции. Как раз на это время выпали и публикация «Бориса Годунова», и одобрение его Николаем Павловичем, и благодарный отзыв от Пушкина о том, что освобождено книгопечатанье.
Кстати, возмущённый послаблениями цензуры старый адмирал Шишков подал в отставку, и на его место был назначен весьма умеренный человек, близкий к Моравским братьям, Курляндский аристократ князь Карл Христоф фон Ливен.
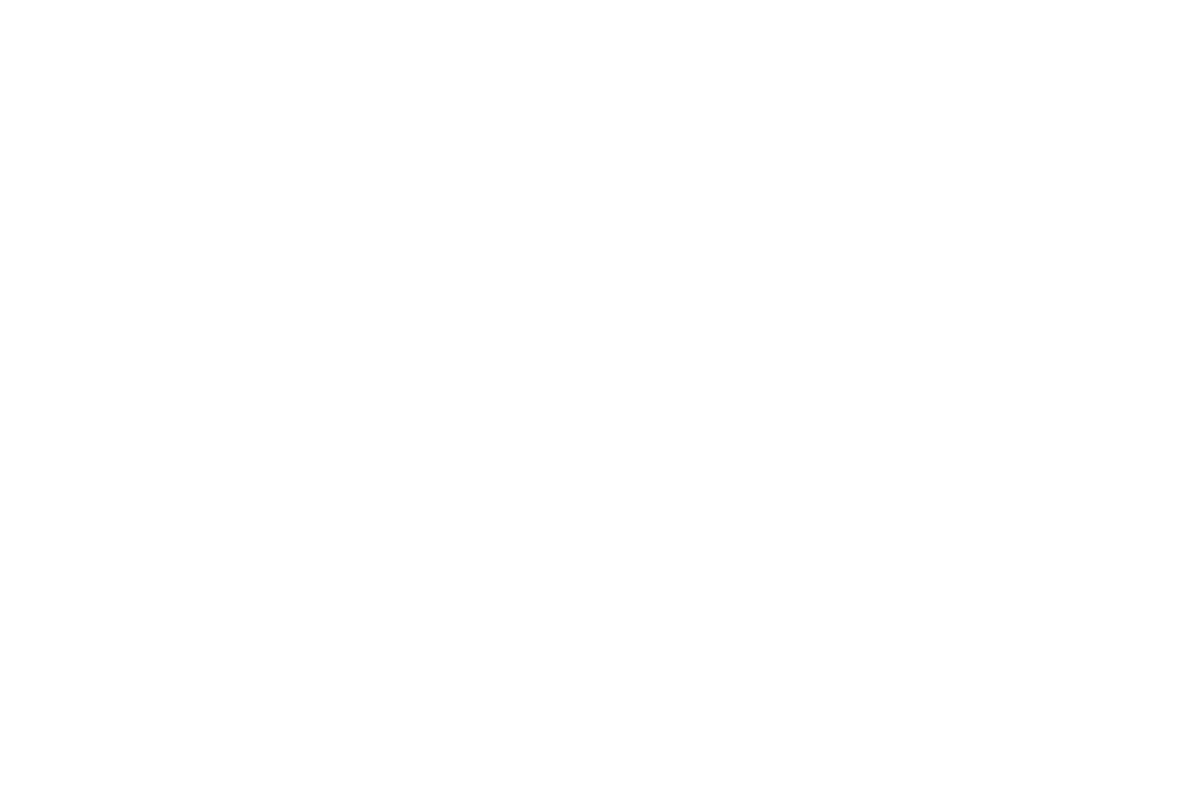
Карл фон Ливен, 1844 г.
Но послабления действовали недолго. Революции во Франции, Бельгии и Польше вызвали в 1830 году новые страхи и новое ужесточение цензурных правил. Так что слова о свободном книгопечатании, обращенные Пушкиным к императору Николаю в благодарность за публикацию «Бориса Годунова», оказались скорее эпитафией.
И в последующие двадцать пять лет Николаевского царствования строгость цензуры только возрастала. Цензоров, пропускавших что-либо, с точки зрения власти, предосудительное, даже если это были маститые профессора и известные литераторы, наказывали гауптвахтой, а в серьезных случаях и ссылкой. Так, в 1833 году профессор Санкт-Петербургского Университета Александр Васильевич Никитенко вскоре после назначения его цензором, провел восемь дней на гауптвахте за то, что пропустил стихотворение Виктора Гюго «Enfant, si j'étais roi», в переводе Деларю. А в 1842 году он же был подвергнут аресту на одну ночь при гауптвахте за пропуск в «Сыне Отечества» повести Ефибовского «Гувернантка», в которой насмешливо говорилось о фельдъегерях.
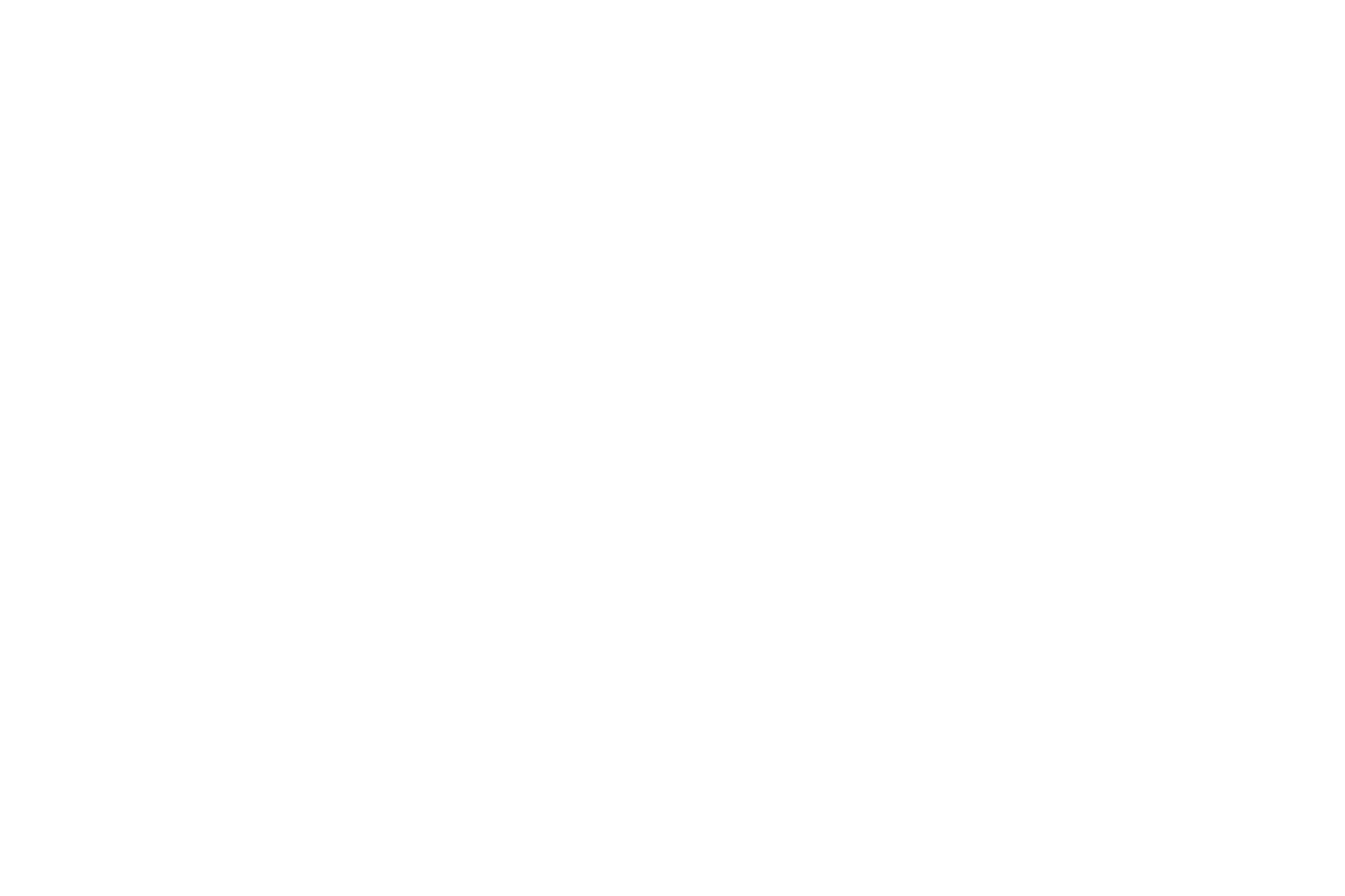
А.В. Никитенко, И.Н. Крамской, 1877 г.
За публикацию «Философического письма» Петра Яковлевича Чаадаева солидный «интеллектуальный» журнал «Телескоп» был закрыт, цензор разжалован, главный редактор профессор Николай Иванович Надеждин — сослан в Вологду, а сам Чаадаев по высочайшему указанию объявлен сумасшедшим — к нему ежедневно являлся доктор, и ему было воспрещено выходить из дома кроме как на вечернюю прогулку. Между тем, в статье Чаадаева не содержалось ни призывов к мятежу, ни оправдания мятежа уже бывшего. Это было скептическое в отношении России историко-философическое рассуждение. Не более того.
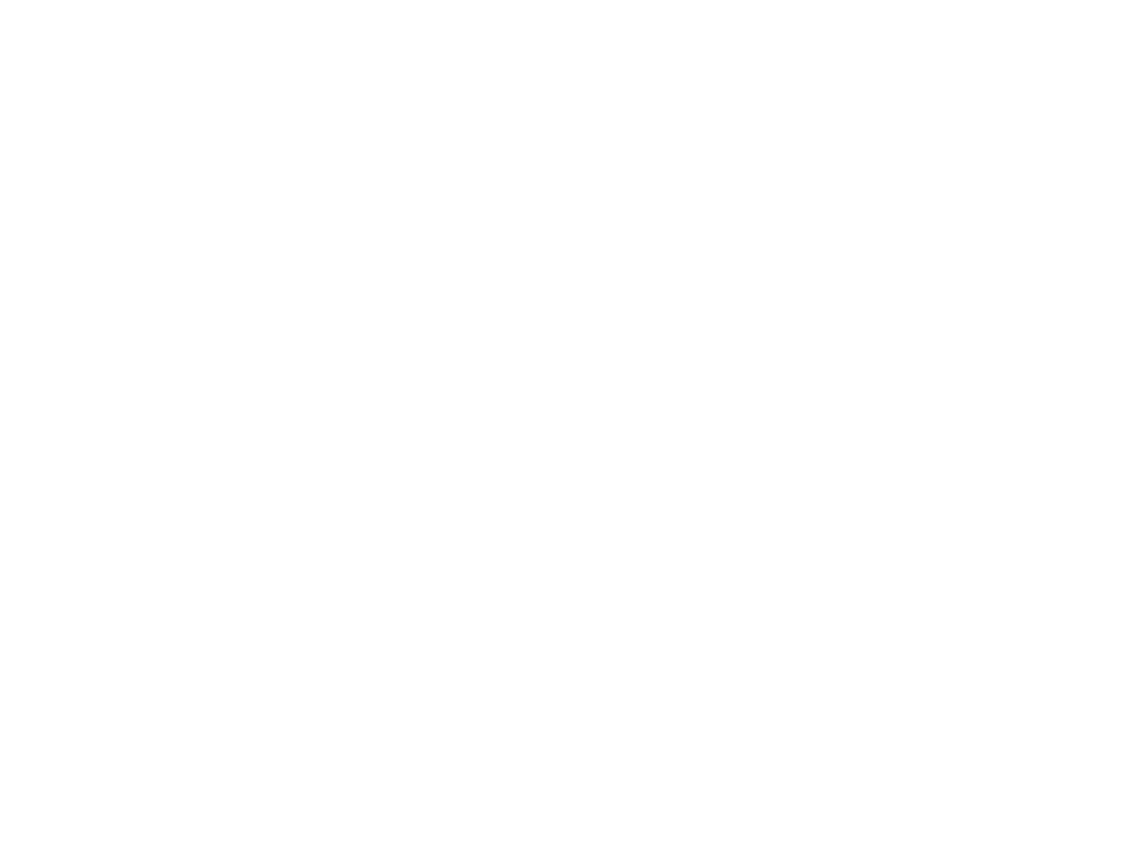
Обложка журнала «Телескоп» в 1833 году
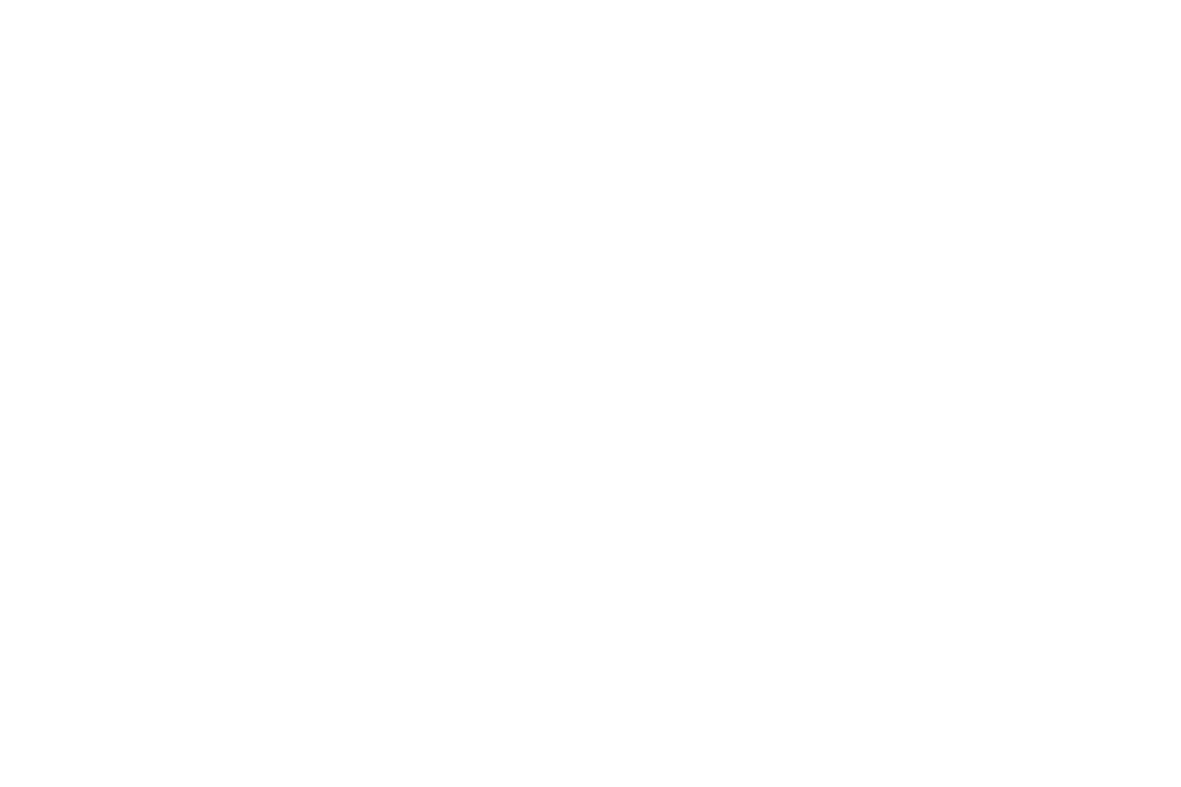
Н.И. Надеждин, 1856 г.
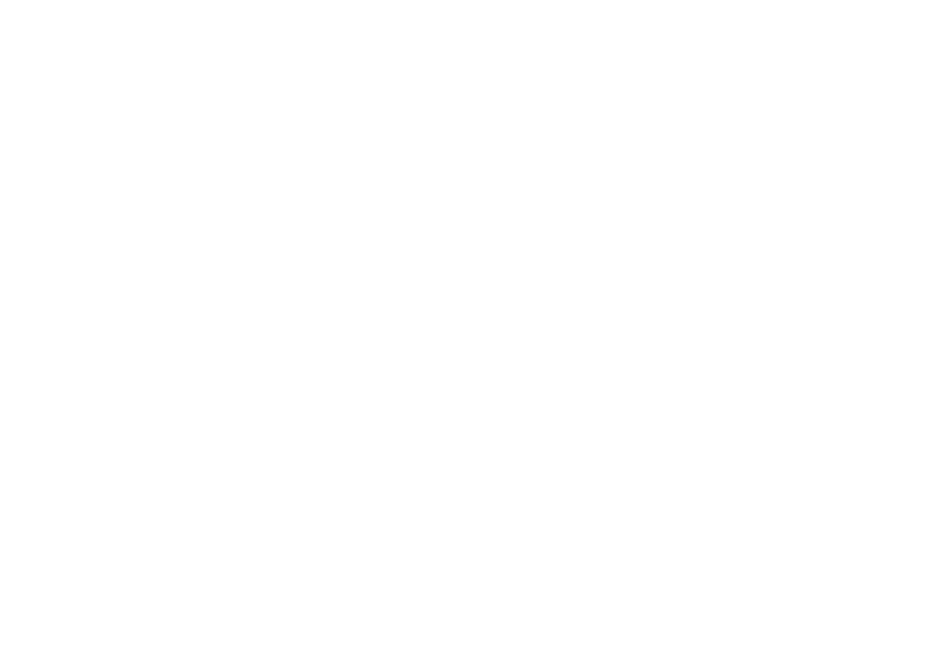
Иван Киреевский
Другой замечательный мыслитель Николаевского царствования Иван Васильевич Киреевский был совершенно сломлен троекратным закрытием журналов, которые он начинал издавать. И опять же, журналы эти, православные и романтические, не содержали и тени революционных призывов, иллюминатских или коммунистических идей. Да и мог ли продвигать такие идеи усердный переводчик аскетических сочинений Макария Египетского и любимое духовное чадо аввы Макария Оптинского? И Чаадаев, и Киреевский, и многие другие запрещенные Николаевской цензурой мыслители уже с первых лет следующего царствования начали широко печататься. Увы — чаще всего посмертно.
Примечательно, что и в сфере образования и цензуры Николай Павлович не сразу, как я уже говорил, нашел «свой стиль». В первые годы, по крайне мере, в отношении высших сословий он, как мы помним, колебался между «затмением» народного духа и продолжением просветительской политики старшего брата. Встать на строго запретительные позиции его и тут побудили даже не столько исторические обстоятельства, сколько советники. И тут свита играла государя.
Чиновникам легче, намного легче, дорогие друзья, жить в мире, где нет свободной прессы и свободного общества. И глупостей можно делать сколько угодно, и воровать немерено, и взятки брать любые. Царь ведь за всем не усмотрит — Россия большая. И потому чиновник, как правило, — за ограничение свободы слова. Цензурные предписания требовали: «Сочинения, в коих заключаются рассуждения насчет правительственных учреждений, равно все статьи, несогласные с теми сведениями, кои имеются ввиду местного начальства, и доставляемые от частных лиц для помещения в периодических изданиях, должны быть рассматриваемы с особенною строгостью и допускаемы к напечатанию не иначе как с особого каждый раз разрешения высшего начальства». [Положение от 25 октября 1845 г. Н. Энгельгардт. Очерк истории русской цензуры… С.89]
Мне кажется, что я цитирую, дорогие друзья, не устав ста семидесятилетней давности, а будущий устав нашей России, если порядки в ней не изменятся. Ведь так выгодно чиновникам, чтобы полученные с помощью дронов частные информации не достигали общества, и все бы верили только тому, что им говорят с государственных каналов телевидения.
Положение 1845 года резко ограничивало даже такую далёкую от политики сферу как театральная критика: «Все журнальные статьи, в каком-либо отношении до театров касающиеся, должны быть сообщаемы прежде напечатания их в газетах директору театров для предварительного прочтения». [Н. Энгельгардт. Очерк истории русской цензуры… С.89] Если учесть, что все политически сомнительные пьесы запрещались к постановке предварительной цензурой, то становится понятным, что это положение должно было обезопасить театры просто от художественной критики, если директор театров считал её нежелательной.
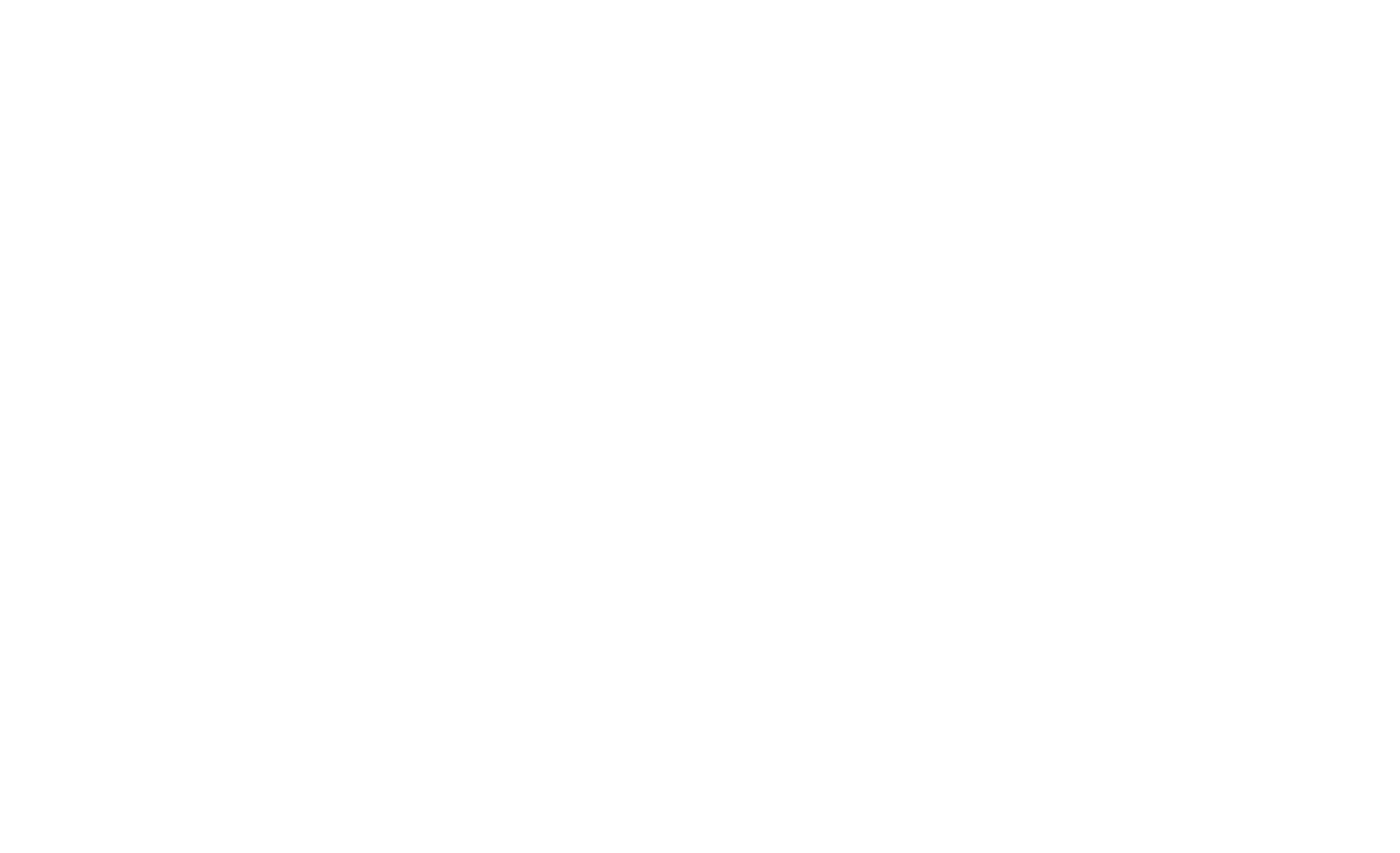
Статья до просмотра цензурой. Справа: Статья процензурированная.
Карикатура из журнала «Искра», 1863 г., №34 (675), стр. 456.
Карикатура из журнала «Искра», 1863 г., №34 (675), стр. 456.
Постановление 1847 года требовало «все статьи о строении Исаакиевского собора, предлагаемые к помещению в журналах… предварительно сообщать на рассмотрение комиссии о построении этого собора». Строительство собора затягивалось, происходили большие злоупотребления отпускаемыми на строительство средствами, — но знать об этом обществу не полагалось.
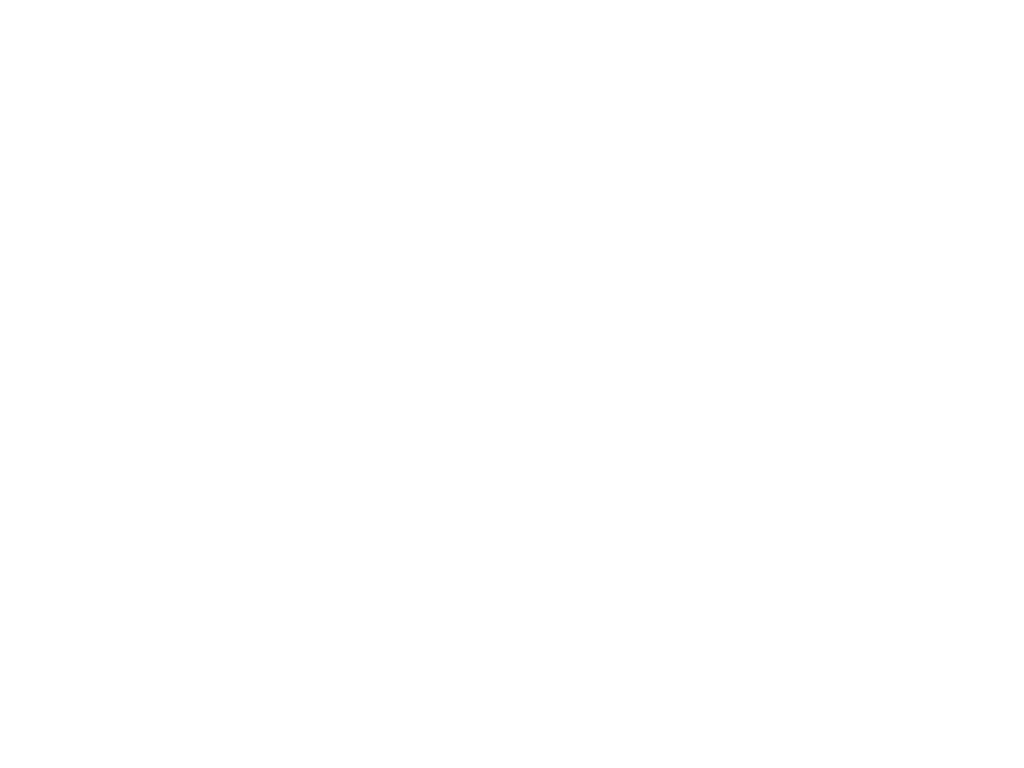
Вид Исаакиевского собора в лесах, c рис. О. Монферрана 1840 г., 1845-1850 гг.
Наверное, вершиной чиновничьей самозащиты является цензурное правило 1843 года с простосердечной наивностью объявлявшее: «Газетные статьи о разных празднествах, устраиваемых в честь губернских чиновников, особенно при увольнении их от должностей, не должны быть допускаемы к печатанию без предварительного рассмотрения оных в министерстве внутренних дел». [Н. Энгельгардт. Очерк истории руской цензуры… С.89]
Герцен и Салтыков-Щедрин оставили нам яркие картинки чиновничьих увеселений. Они, конечно, нравственно не безупречны, но политически вполне нейтральны. Вина, снеди, порой — женщины, но уж точно никакой политики. Но граждане не должны были знать вообще, что чиновники веселятся, и особенно, — как они веселятся. Мир государственной жизни должен скрываться от глаз русского общества цензурой, совсем как вершина Синая облаками при божественной эпифании или дворец Путина в Геленджике с бесполётной зоной.
«Ревизор» Николая Васильевича Гоголя был бы запрещён цензурой к постановке весной 1836 года, если бы не высочайшее заступничество монарха. 29 апреля 1836 года Гоголь писал Михаилу Семеновичу Щепкину: «Все против меня, чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих лицах; полицейские против меня; купцы против меня; литераторы против меня… Если б не высокое заступничество Государя, пьеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении её».
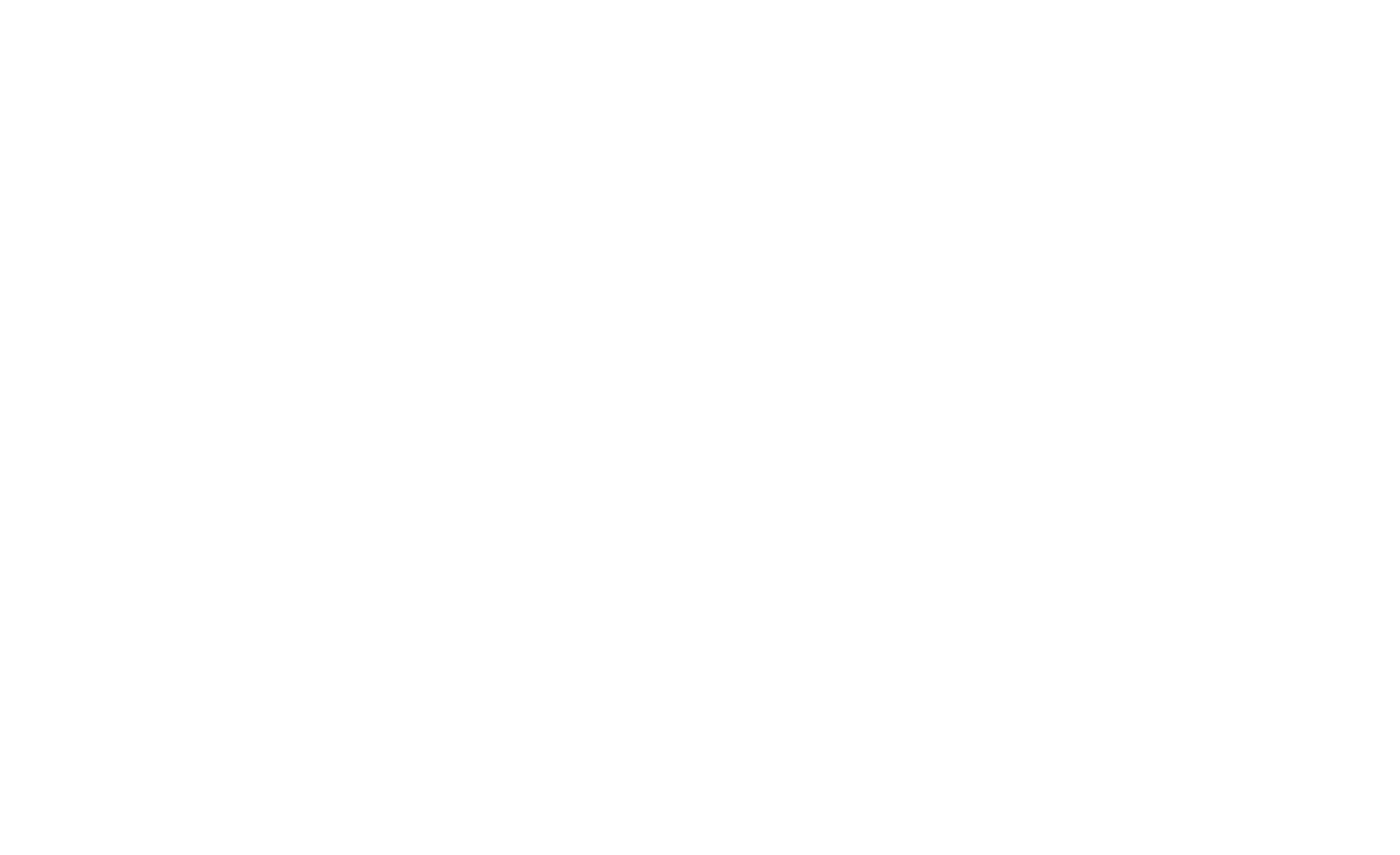
Собственноручный рисунок Гоголя к последней сцене Ревизора, 1836 г.
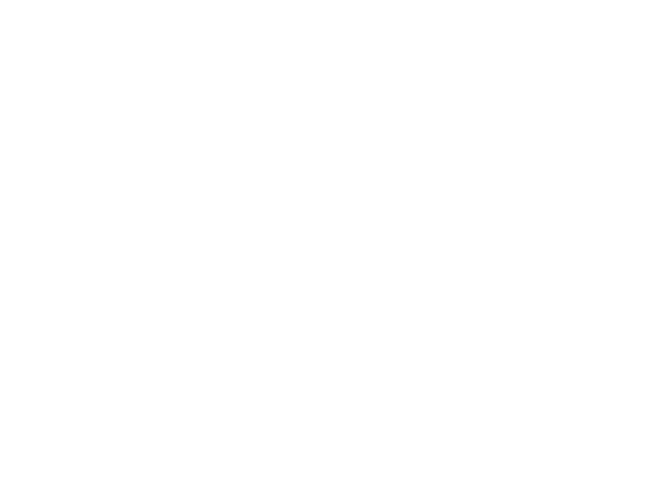
Афиша первого представления «Ревизора» в 1836 г.
В 1836 году Государь переиграл свиту, и «Ревизор» был поставлен, но чиновники учились на былых неудачах: Николай Павлович, наблюдая за европейскими революциями, всё больше боялся революции русской и, с первых лет царствования взяв курс на охранительство, всё больше подпадал под власть им же созданной бюрократической системы.
Не веря в здоровые народные силы, не веря в гражданственность, Николай построил бюрократический аппарат для надежного управления Россией ради её же блага. Но чиновничество, не имея над собой никакого контроля кроме особы Государя Императора (III Отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии графа Бенкендорфа, о котором мы ещё поговорим в отдельной лекции, являлось такой же частью бюрократии, как и все остальные ведомства Империи), использовало всю Россию как средство для своего благополучного существования. Не имея гражданской организации, общество не могло ограничить чиновничий произвол делом, не имея свободной прессы, оно было бессильно обличить злоупотребления печатным словом: «Подробное и беспристрастное изучение истории русской цензуры приводит нас к выводу, что цензура первой половины XIX столетия была делом не монархов, но подданных», — точно замечает Энгельгардт. [Н. Энгельгардт. Очерк истории русской цензуры… С.12] Понятно, что не о всех подданных речь, но о большинстве ведущего слоя — чиновниках, дворянах, духовенстве.
Эксплуатируя болезненный страх императора Николая перед революцией, ловко потворствуя его абсолютистским слабостям, его игре в Петра Великого, придворные постепенно возводили цензурную стену, отделяющую царя от народа и, одновременно, надёжно защищавшую чиновников от контроля и со стороны общества, и со стороны верховной власти.
6. Цензура над цензурой
В 1848 году по рекомендации барона Корфа и графа Орлова Император учредил особый комитет по контролю над цензурой, так называемый Комитет 2 апреля. Хотя к концу 1840-х годов цензура свирепствовала во всю, охранителям «общественного спокойствия» этого казалось мало. Барон Корф записывал: «Среди жгучей тревоги, вдруг овладевшей всеми нами вследствие парижских вестей (революция 1848 года – А.З.), нельзя было не обратить внимания на нашу журналистику, в особенности же на два журнала — «Отечественные Записки» и «Современник». Оба, пользуясь малоразумием тогдашней цензуры, позволяли себе печатать Бог знает что, и по проповедуемым ими под разными иносказательными, но очень прозрачных для посвященных формами, коммунистические идеи могли сделаться небезопасными для общественного спокойствия».
В 1848 году по рекомендации барона Корфа и графа Орлова Император учредил особый комитет по контролю над цензурой, так называемый Комитет 2 апреля. Хотя к концу 1840-х годов цензура свирепствовала во всю, охранителям «общественного спокойствия» этого казалось мало. Барон Корф записывал: «Среди жгучей тревоги, вдруг овладевшей всеми нами вследствие парижских вестей (революция 1848 года – А.З.), нельзя было не обратить внимания на нашу журналистику, в особенности же на два журнала — «Отечественные Записки» и «Современник». Оба, пользуясь малоразумием тогдашней цензуры, позволяли себе печатать Бог знает что, и по проповедуемым ими под разными иносказательными, но очень прозрачных для посвященных формами, коммунистические идеи могли сделаться небезопасными для общественного спокойствия».
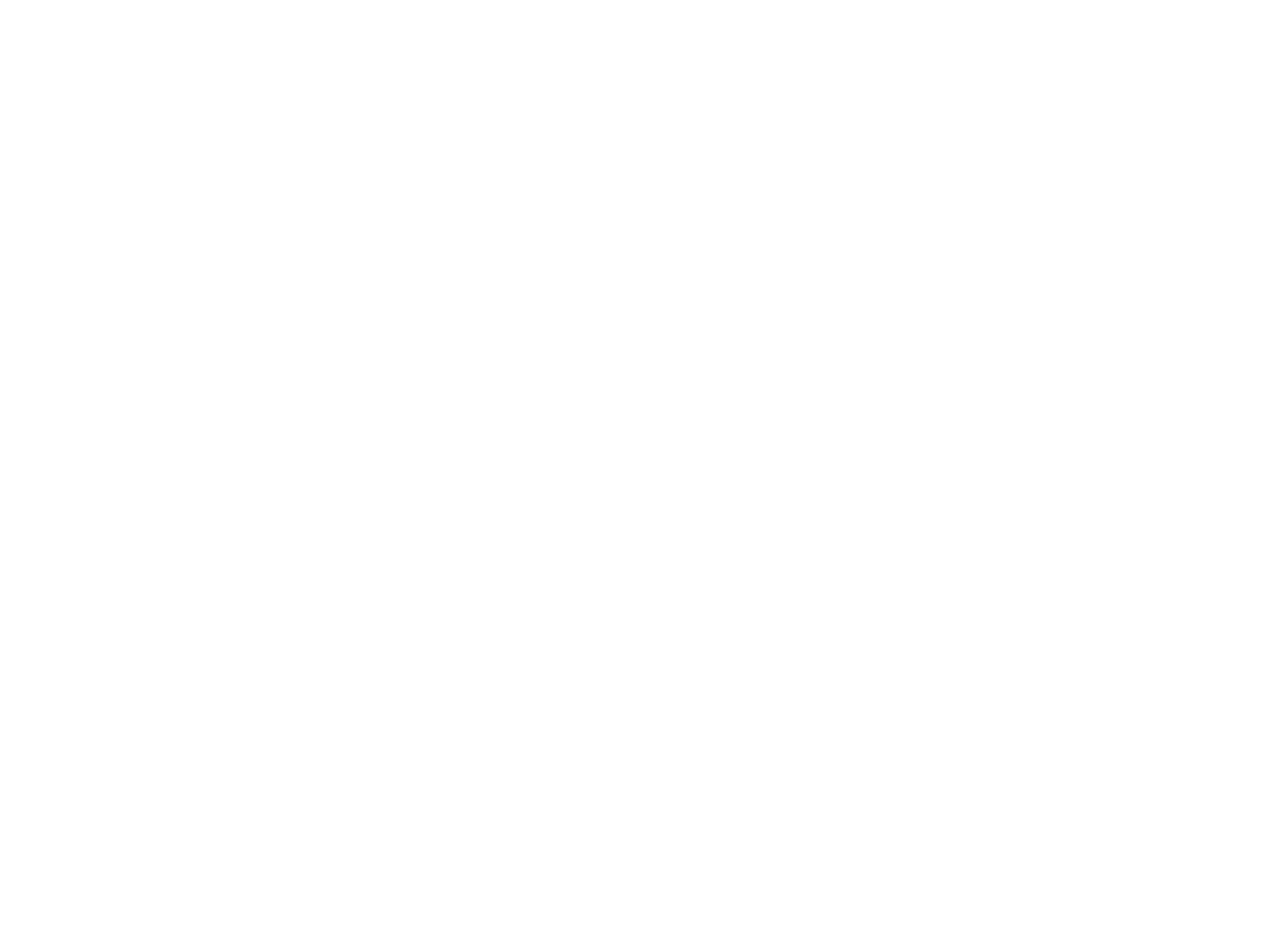
М.А. Корф, И.Ф. Александровский, 1860-е гг., Эрмитаж, Санкт-Петербург
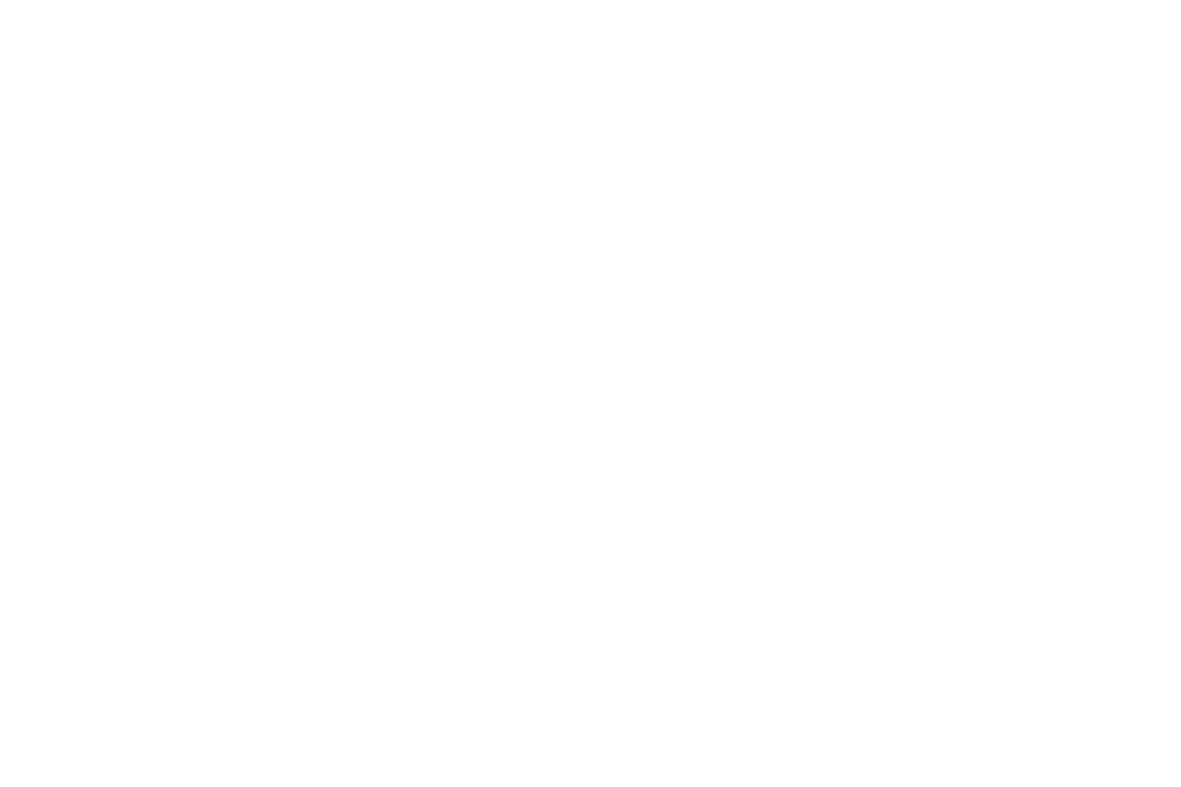
Александр Николаевич, К.К. Фогель фон Фогельштейн, 1840 г., Гравюрный кабинет, Дрезден
Горячим сторонником Корфа стал наследник Александр Николаевич, будущий Царь-Освободитель. Именно у него за обедом 24 февраля 1848 года были обсуждены все детали этого невиданного сооружения, а вскоре последовал и рескрипт Государя: «Необходимо составить особый комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура, и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы? Комитету донести мне с доказательствами, где найдёт какие упущения цензуры и её начальства, т.е. министерства народного просвещения… Занятия Комитета начать немедля». [М. Корф. Записки… С. 428-429]
По имени своего председателя, члена Государственного Совета действительного тайного советника генерала Дмитрия Бутурлина, комитет этот получил также название «Бутурлинский». «Цензурные установления — объяснял Бутурлину и Корфу их задачи Император – останутся все как были; но вы будете — я; то есть как самому мне некогда читать все произведения нашей литературы, то вы станете делать это за меня и доносить мне о ваших замечаниях, а потому уже мое дело будет расправляться с виноватыми». [М. Корф. Записки… С. 430]
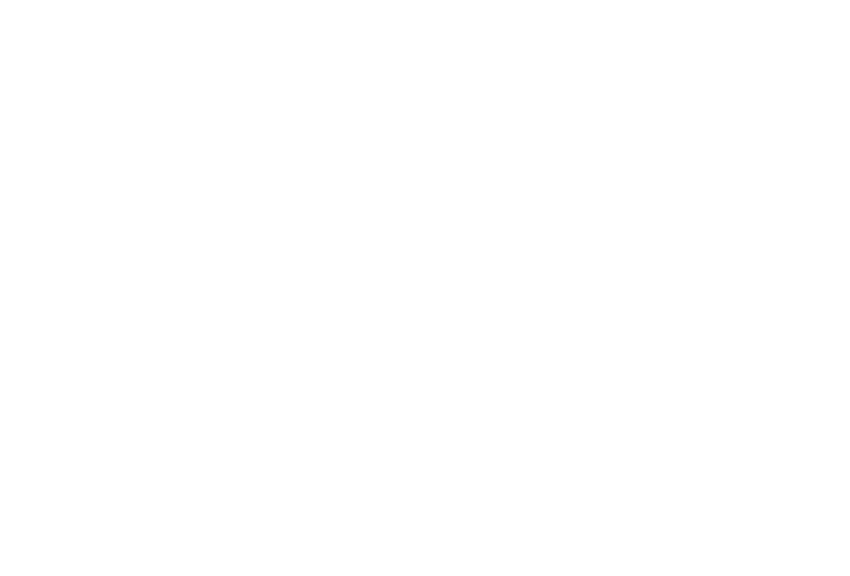
Д.П. Бутурлин, неизвестный художник, 1830-е гг.
Комитет заработал очень рьяно. Вылавливались как крамола даже пустяки, раздувались в слонов комары и мухи, так что Государь порой сам одёргивал своих «alter ego». Но при этом Николай никогда не ругал «бутурлинцев» за излишнее усердие, считая, что «лучше представить что-нибудь мелочное, чем пропустить важное». [М. Корф. Записки… С. 433]
Бутурлинский Комитет — цензура над цензурой — действовал до самого последнего дня Николаевского Царствования. В печать действительно не проникала теперь ни одна живая критическая мысль, ни одно честное, не раболепное слово. Порой доходило до глупостей невероятных. Сам бывший министр народного просвещения граф Сергей Семёнович Уваров жаловался в начале января 1852 года Никитенко, что при печатании книги его сына археолога Алексея Уварова «О греческих древностях открытых в Южной России», цензор никак не соглашался пропустить слово «демос», по его ассоциации с понятием демократии, и требовал заменить на слово «граждане». [А.В. Никитенко. Записки и дневник. Изд.2-е. Т.1, С.524]
Графиня Антонина Дмитриевна Блудова вспоминала, что Бутурлин хотел вырезать некоторые стихи из акафиста Покрову Божьей Матери, например, такие: «Радуйся, незримое укрощение владык жестоких и зверонравных… Советы неправедных князей разори, зачинающих рати погуби...» Когда её отец, министр внутренних дел граф Дмитрий Блудов, заметил Бутурлину, что он, таким образом, осуждает своего ангела, святителя Димитрия Ростовского, который сочинил этот акафист и никогда не считался революционером, генерал-цензор на полном серьёзе отозвался: «Кто бы ни сочинял, тут есть опасные выражения». Блудов заметил, что подобные выражения есть и в Евангелии. Бутурлин, впрочем, уже в шуточном тоне, ответил, что если бы Евангелие не было такой известной книгой, то цензуре, конечно, нужно было бы исправить и её. [Графиня А.Д. Блудова. Воспоминания…М., 1889] Вспоминая, как боролся при Николае Павловиче Синод с русским переводом Священного Писания (об этом ещё будет речь), нельзя не согласиться, что эта шутка Бутурлина звучала в начале 1850-х совсем не шуточно, а скорее зловеще.
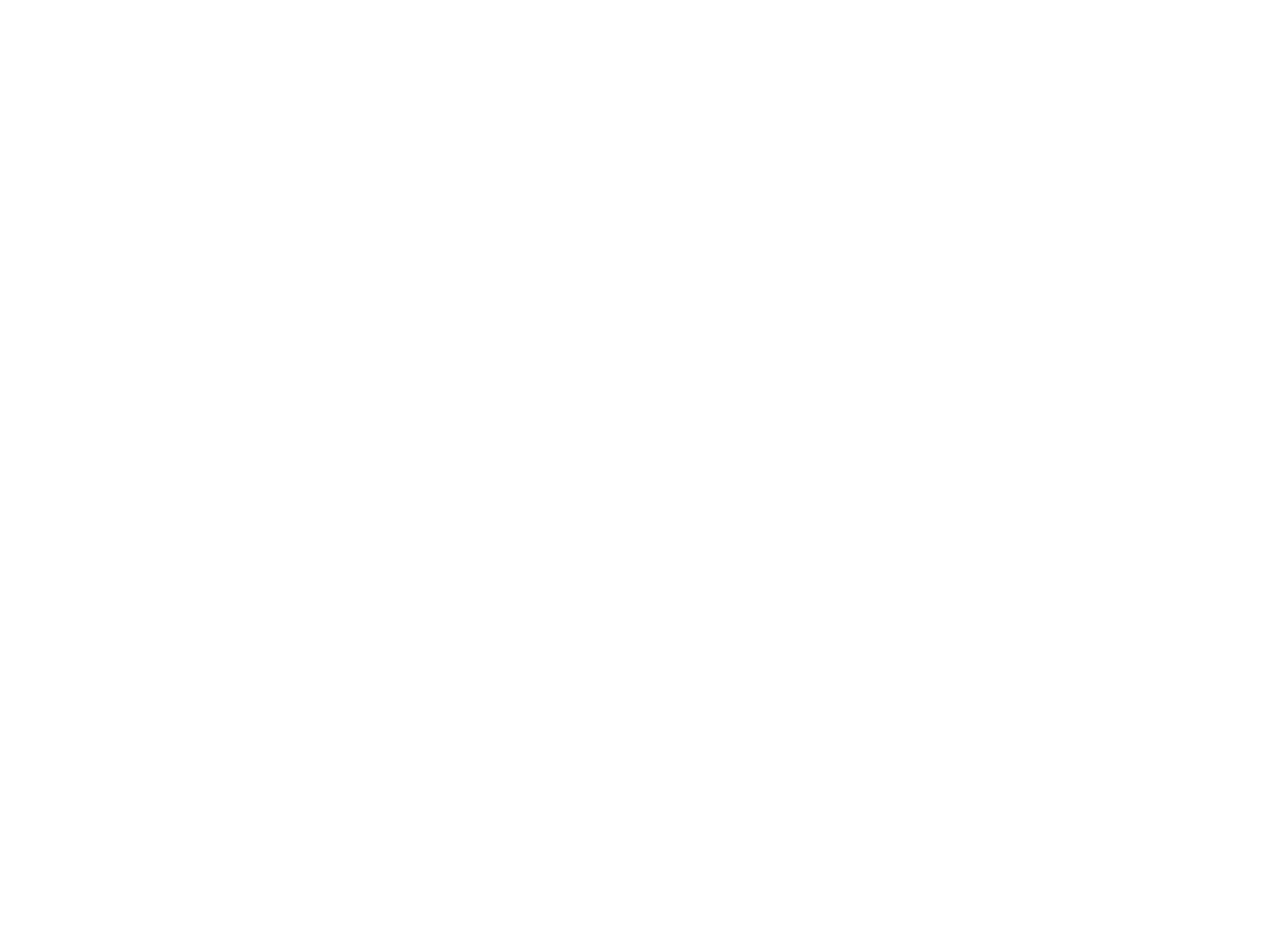
Д.Н. Блудов, гравюра И. И. Хелмицкого, Русская старина, 1901 г., т. 108, вып. 12
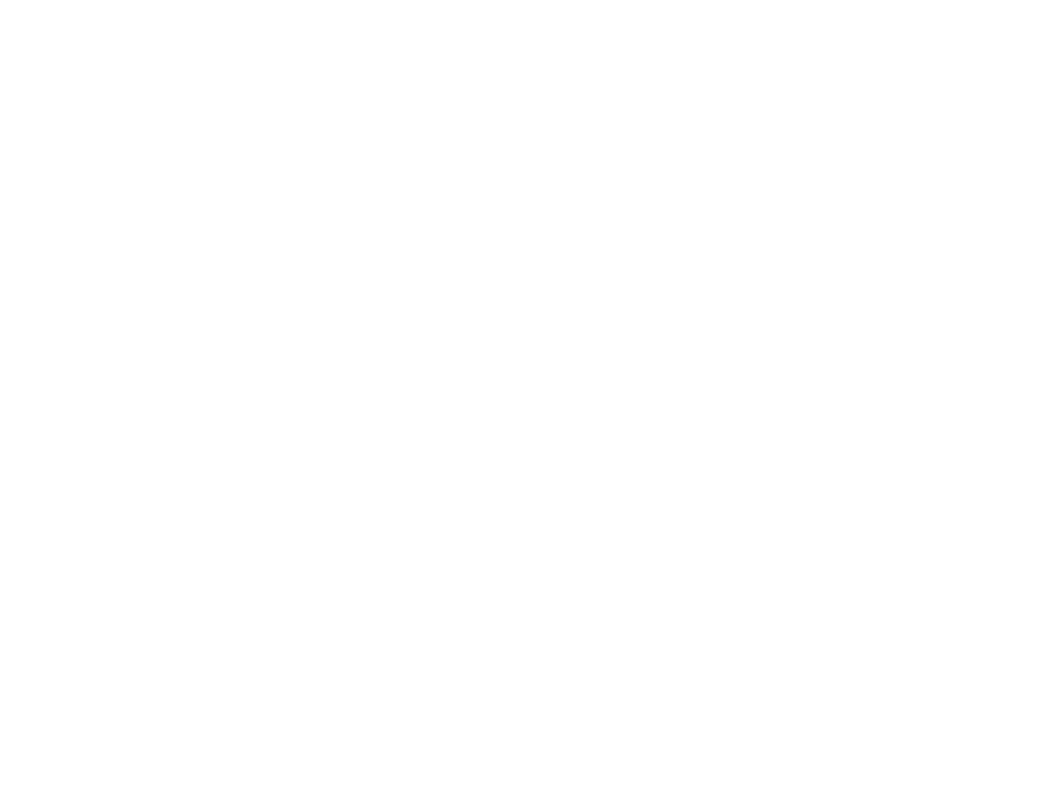
А.Д. Блудова, неизвестный автор, вт. пол. XIX в.
В 1850 году Иван Аксаков в распространявшихся в списках и, якобы, переведённых с санскрита стихах так характеризовал состояние современного ему общества:
«Клеймо домашнего позора
Мы носим, славные извне…
В могучем крае нет отпора,
В пространном царстве нет простора,
В родимой душно стороне…
Её в своём безумье яром
Гнетут усердные рабы…
А мы глядим, слабеем жаром
И с каждым днём сдаёмся даром,
В бесплодность, веруя, борьбы…
И слово правды ослабело,
И реже шопот смелых дум,
И сердце в нас одебелело;
Порывов нет, в забвеньи дело,
Спугнули мысль, стал празден ум…»
Мы носим, славные извне…
В могучем крае нет отпора,
В пространном царстве нет простора,
В родимой душно стороне…
Её в своём безумье яром
Гнетут усердные рабы…
А мы глядим, слабеем жаром
И с каждым днём сдаёмся даром,
В бесплодность, веруя, борьбы…
И слово правды ослабело,
И реже шопот смелых дум,
И сердце в нас одебелело;
Порывов нет, в забвеньи дело,
Спугнули мысль, стал празден ум…»
Стоит ли говорить, что и самому Ивану Аксакову, и его единомышленникам брату Константину, Алексею Хомякову, братьям Киреевским, Юрию Самарину, Кошелеву — по рекомендации Бутурлина Император в 1852 году не только издание любых журналов воспретил, но даже и подавать свои произведения на рассмотрение цензуры не позволил. Светлейшие головы и благороднейшие сердца России были вычеркнуты из публичной жизни.
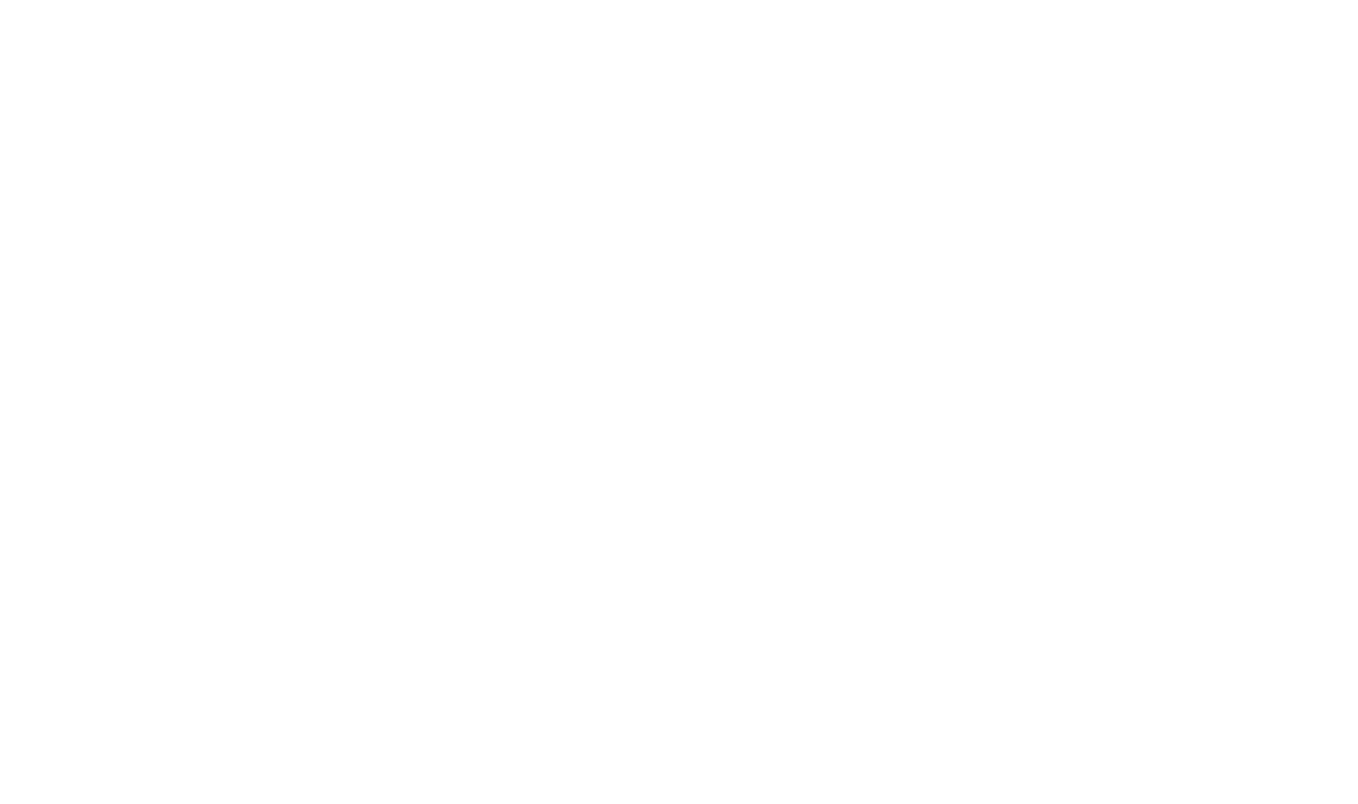
И.С. Аксаков, А.И. Деньер, 1865 г.
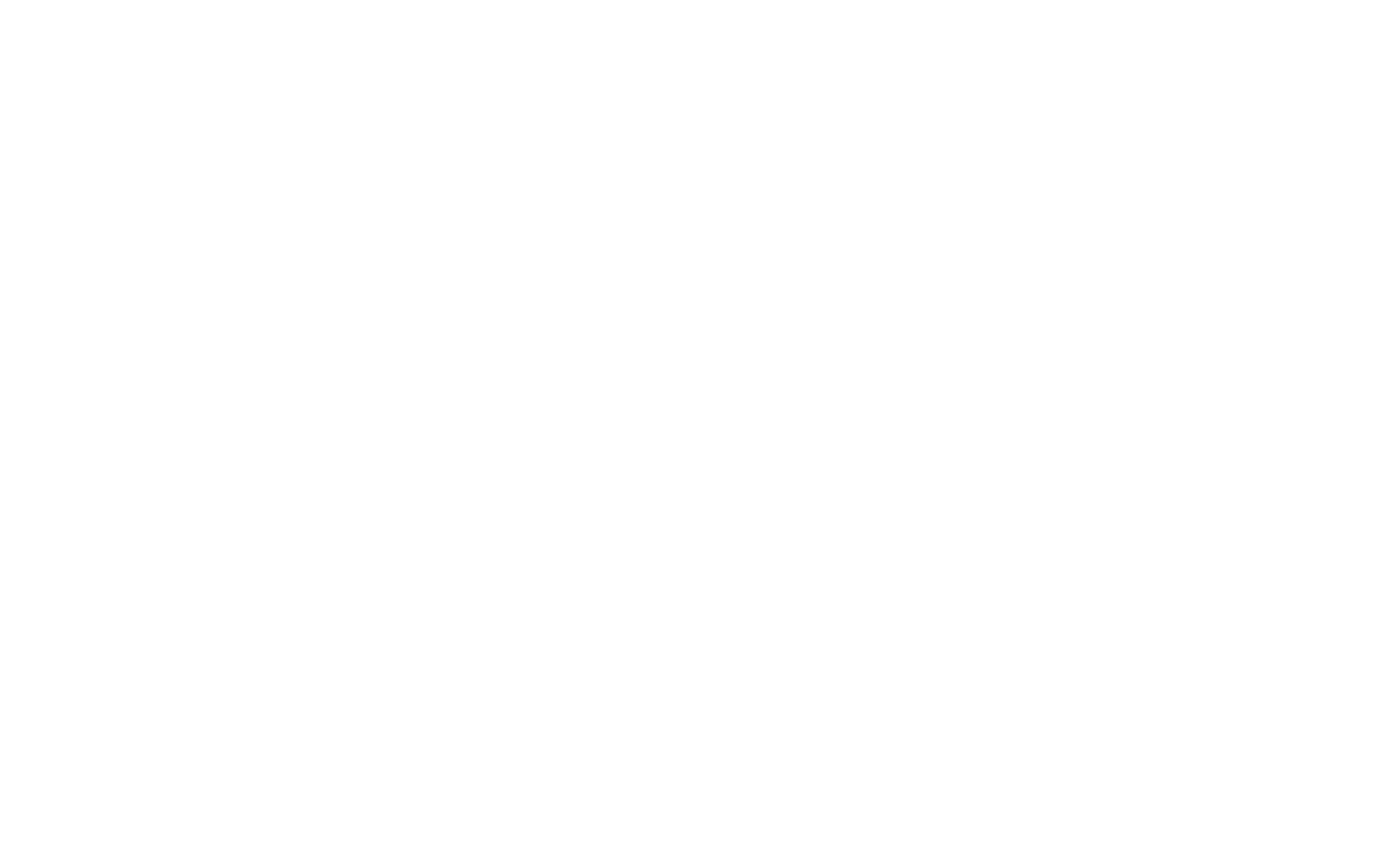
К.С. Аксаков, П. Борель, Портретная галерея русских деятелей, тип. и лит. А. Мюнстера, 1864-1869 г.
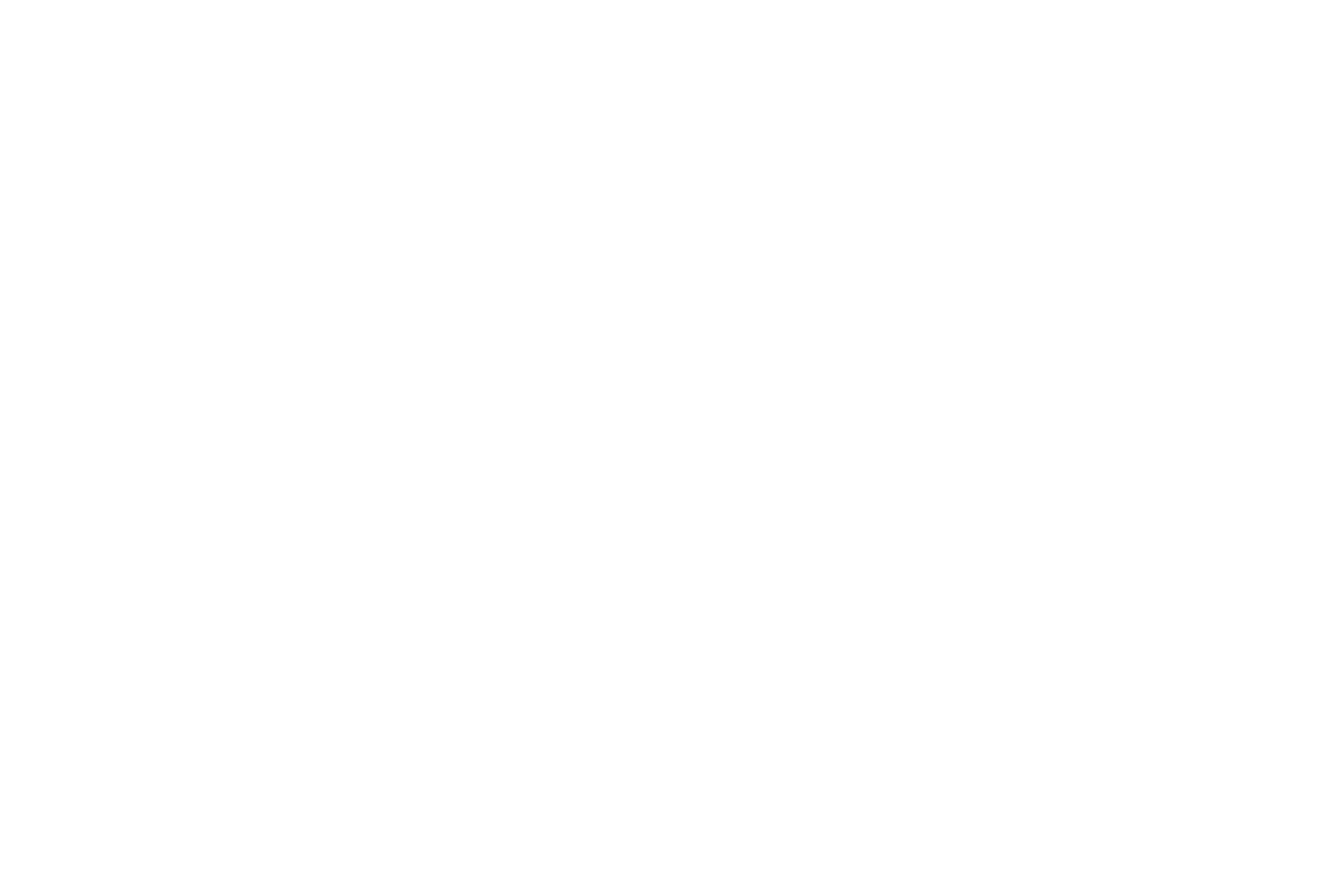
А.С. Хомяков, неизвестный автор, фото конца 1850 гг.
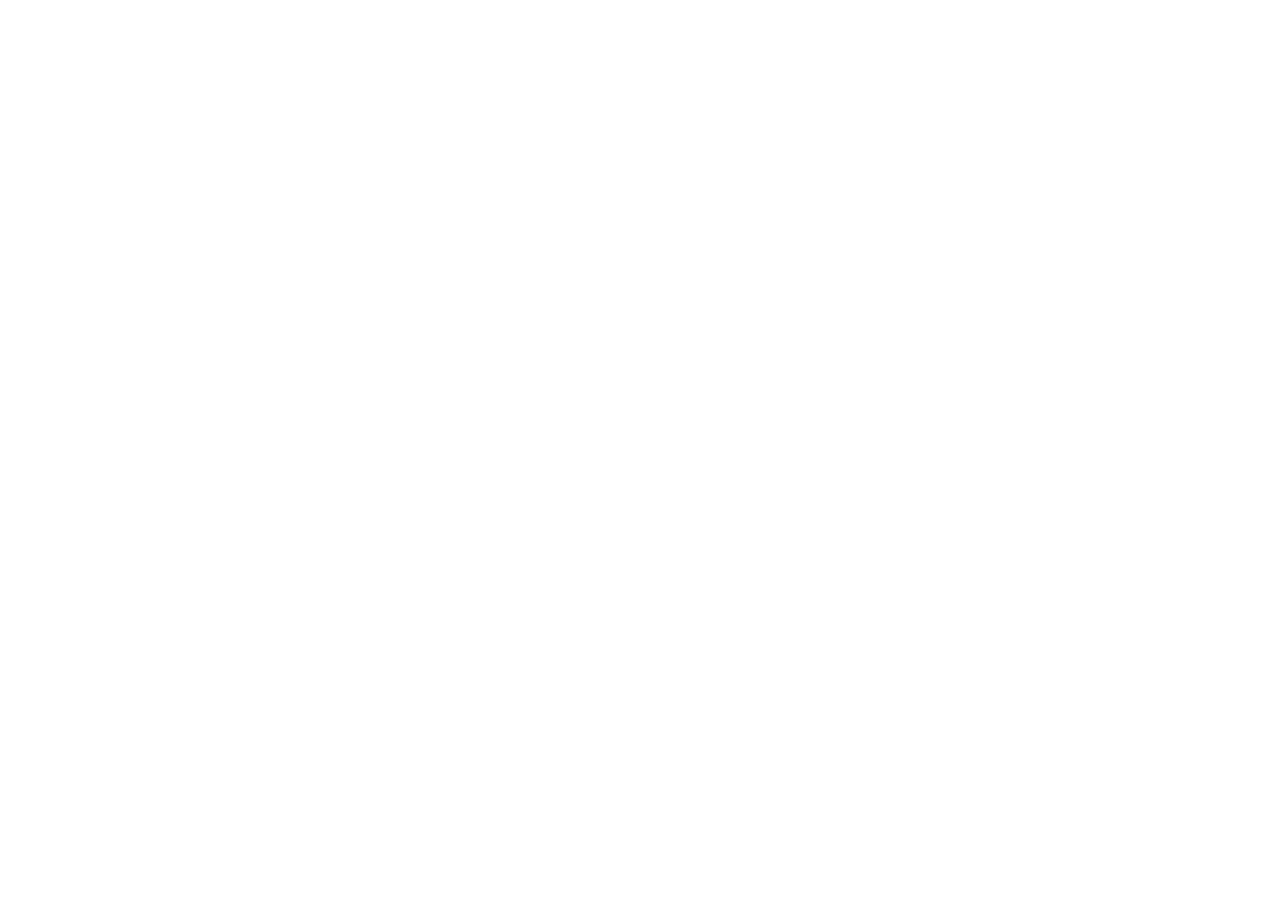
П.В. Киреевский, Э.А. Дмитриев-Мамонов, из «Песни, собранные П.В. Киреевским», Вып. 1-2. 1911 г.
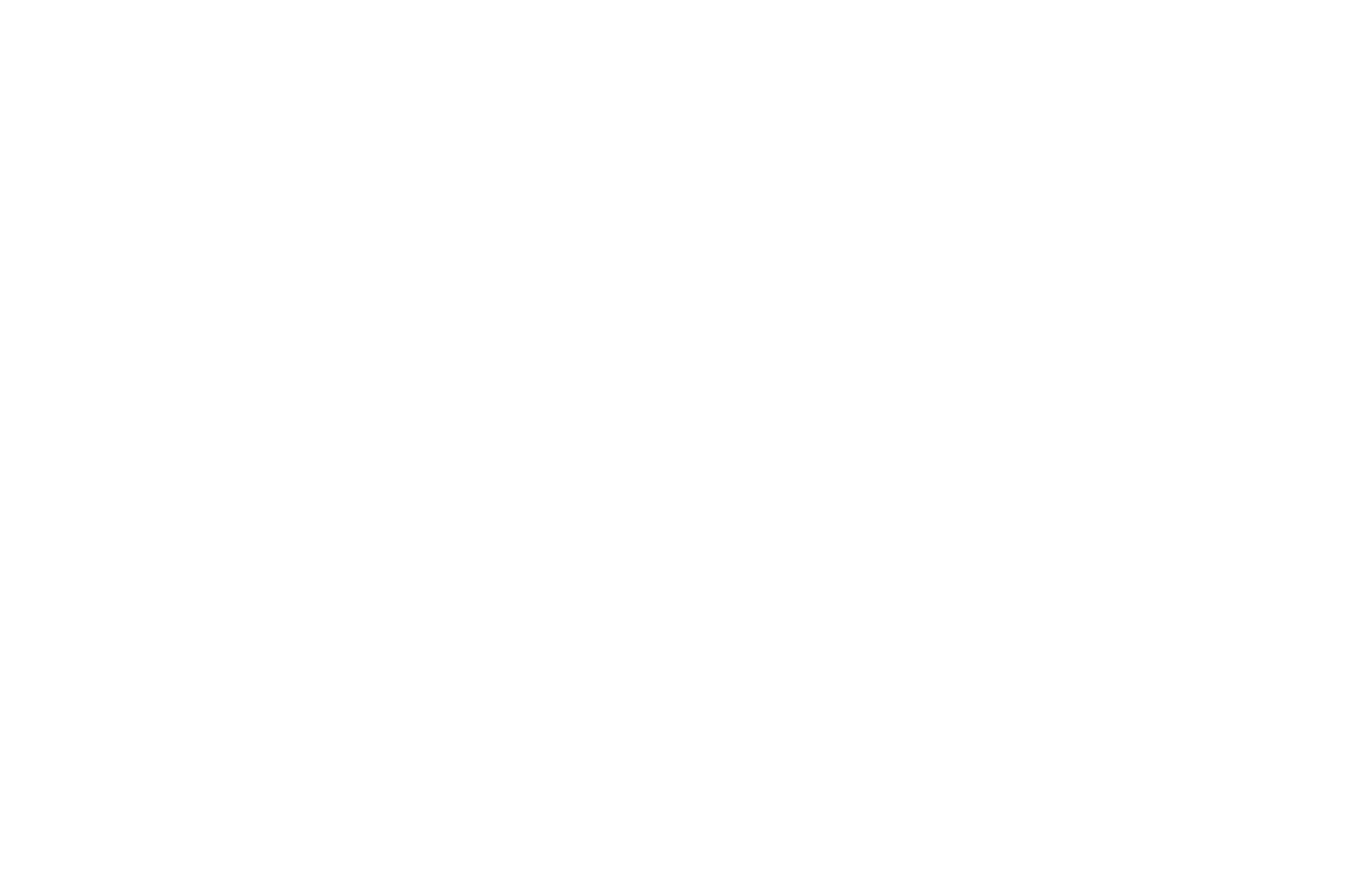
Ю.Ф. Самарин, В.А. Тропинин, 1844 г., Национальная портретная галерея, ГИМ
Вспоминая через полвека то время, замечательный русский правовед и общественный деятель Борис Николаевич Чичерин писал: «В последние годы царствования деспотизм достиг самых крайних размеров, и гнет стал совершенно невыносимым. Всякий независимый голос умолк; университеты были скручены: печать была подавлена; о просвещении никто уже не думал. В официальных кругах водворилось безграничное раболепство, а внизу накипала затаенная злоба. Всё, по-видимому, повиновалось беспрекословно; всё ходило по струнке. Цель монарха была достигнута – идеал восточного деспотизма водворился в русской земле». [Б.Н. Чичерин. Воспоминания. Минск. 2001. С. 180]
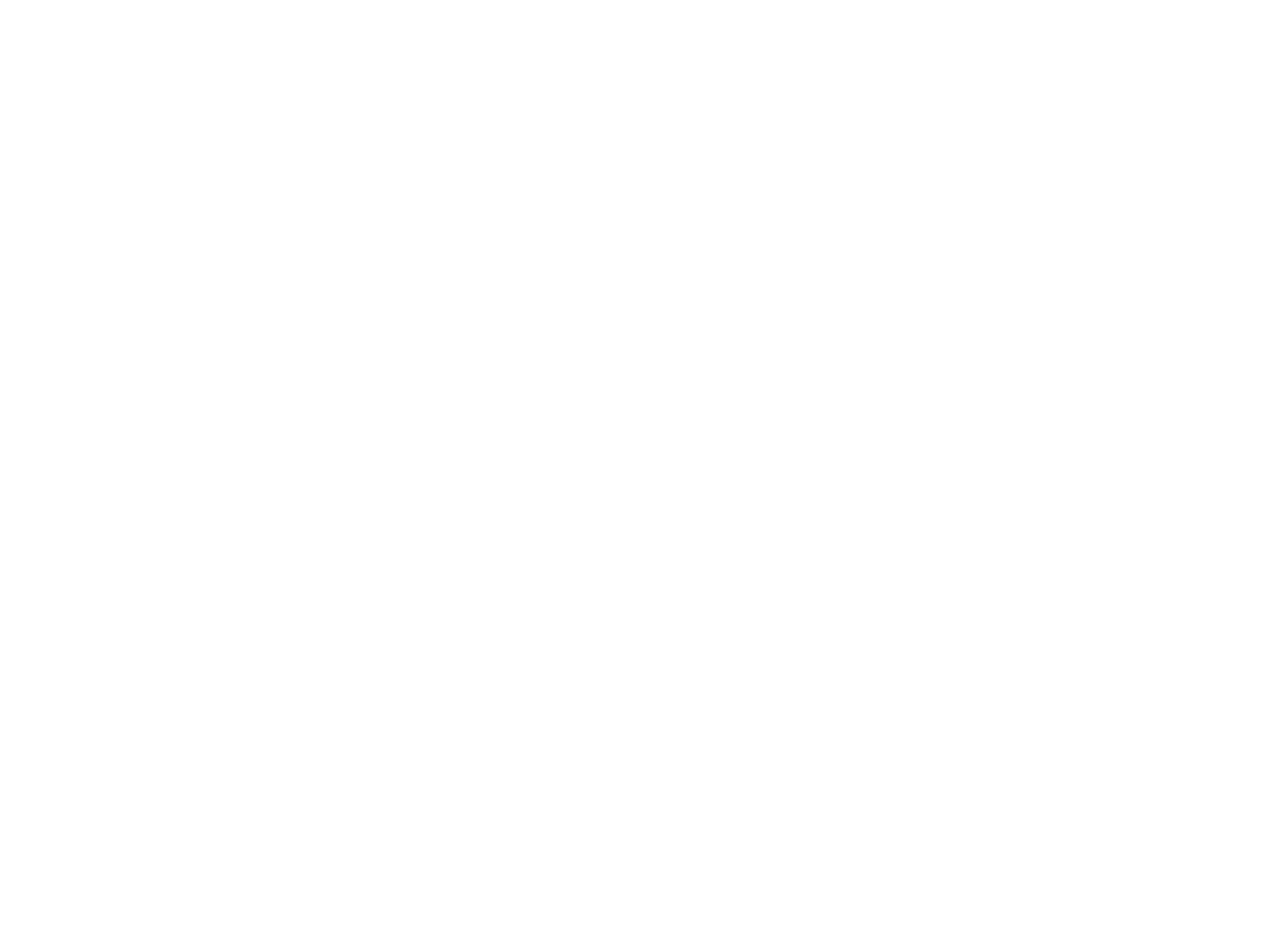
Б.Н. Чичерин, В.О. Шервуд, 1897 г.
7. Упущенный шанс
Таков итог этого царствования. Но вряд ли деспотизм был целью Николая Павловича с первых лет пребывания на престоле. Он жаждал порядка, он хотел сделать из общества часовой механизм, чтобы водворить в Империи принципы чести и справедливости. Он желал осчастливить людей, но, в отличие от старшего брата, не уважал их свободу и верил не в их, а только в свои нравственные силы. Он заставил общество молчать или благодарить. Чем дальше, тем больше он не позволял сомневаться в мудрости и всезнании власти. Николай не особенно верил и чиновнику. Но все же чиновник был винтиком власти и потому заслуживал в его глазах много большего доверия, чем заурядный обыватель.
Таков итог этого царствования. Но вряд ли деспотизм был целью Николая Павловича с первых лет пребывания на престоле. Он жаждал порядка, он хотел сделать из общества часовой механизм, чтобы водворить в Империи принципы чести и справедливости. Он желал осчастливить людей, но, в отличие от старшего брата, не уважал их свободу и верил не в их, а только в свои нравственные силы. Он заставил общество молчать или благодарить. Чем дальше, тем больше он не позволял сомневаться в мудрости и всезнании власти. Николай не особенно верил и чиновнику. Но все же чиновник был винтиком власти и потому заслуживал в его глазах много большего доверия, чем заурядный обыватель.
Император громоздил одно бюрократическое учреждение на другое, пытался контролировать бюрократию с помощью самой же бюрократии, цензуру с помощью цензуры, а в результате «все это столь сурово оберегаемое здание оказалось гнилым в самом основании. При первом внешнем толчке (Крымская война – А.З.) обнаружилась та внутренняя порча, которая подтачивала его со всех концов. Администрация оказалась никуда не годной, казнокрадство было повсеместное. Положиться было не на кого; везде царствовала неспособность. Даже армия, любимое детище Царя, была лишена самых необходимых для действий орудий, и все доблести русского солдата тратились напрасно в неравной борьбе… Всё было устремлено на одну внешность, а о существе дела никто не заботился», — констатирует Борис Николаевич Чичерин. [Б.Н. Чичерин. Воспоминания… С. 181]
Император крепко забыл, что «мысль, слово – это не ˝прерогативы˝, а неотъемлемая принадлежность человека, без которой он не человек, а животное. Бессмысленны и бессловесны только скоты. Посягать на жизнь разума и слова в человеке, значит не только совершать святотатство Божьих даров, но посягать на божественную сторону человека, на самый Дух Божий, пребывающий в человеке, на то, чем человек – человек, и без чего человек — не человек». [И.С. Аксаков. Сочинения. Т.5, М., 1886. С.11-12]
То есть, по мысли Ивана Аксакова, посягать на жизнь разума и слова — это то же, что и совершать проступок, который «не простится ни в сём веке, ни в будущем», — произносить хулу на Духа Святого [Мф.12,32]. Страшная эпитафия николаевской цензуре, да и самому царствованию Николая Павловича.
С болью сердечной наблюдая унижение и разгром России в Восточной (Крымской) войне, Иван Аксаков констатировал: «Государство в видах собственного сохранения должно предоставить полнейшую свободу деятельности общественному сознанию. Если государство желает жить, то должно соблюдать непременные условия жизни, вне которых – смерть и разрушение; условие жизни государства есть жизнь общества; условие жизни общества есть свобода слова, как орудия общественного сознания». [И.С. Аксаков. Сочинения. Т.4, М., 1886. С.366-367]
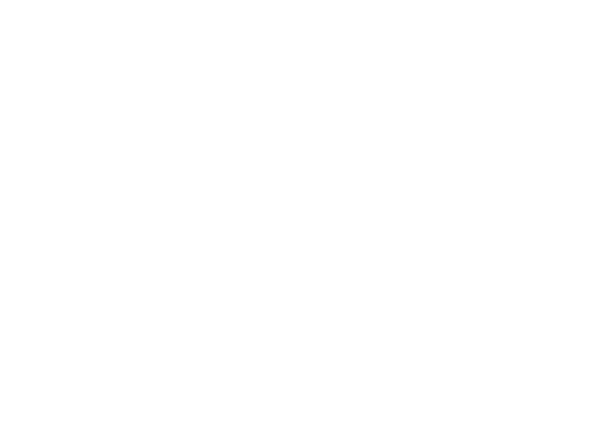
История Святой Руси. Николай I произносит речь перед гвардейцами, Г. Доре, 1854 г.,
РГАЛИ, Москва
РГАЛИ, Москва
Шанс использовать самодержавие для превращения России в парламентское государство (государство, где работает общественное сознание), шанс, который Александр I видел, но не смог осуществить до конца, он передал брату. А брат Николай монархический абсолютизм из инструмента перехода к свободному обществу, вновь, как и цари XVIII столетия, превратил в самоцель, в идола. «Его самодержавие милостью Божией, — как точно замечала Анна Тютчева, — было для него догматом и предметом поклонения, и он с глубоким убеждением и верой совмещал в своем лице роль кумира и великого жреца этой религии». [А.Ф. Тютчева. При дворе двух императоров. М.: Захаров, 2000]
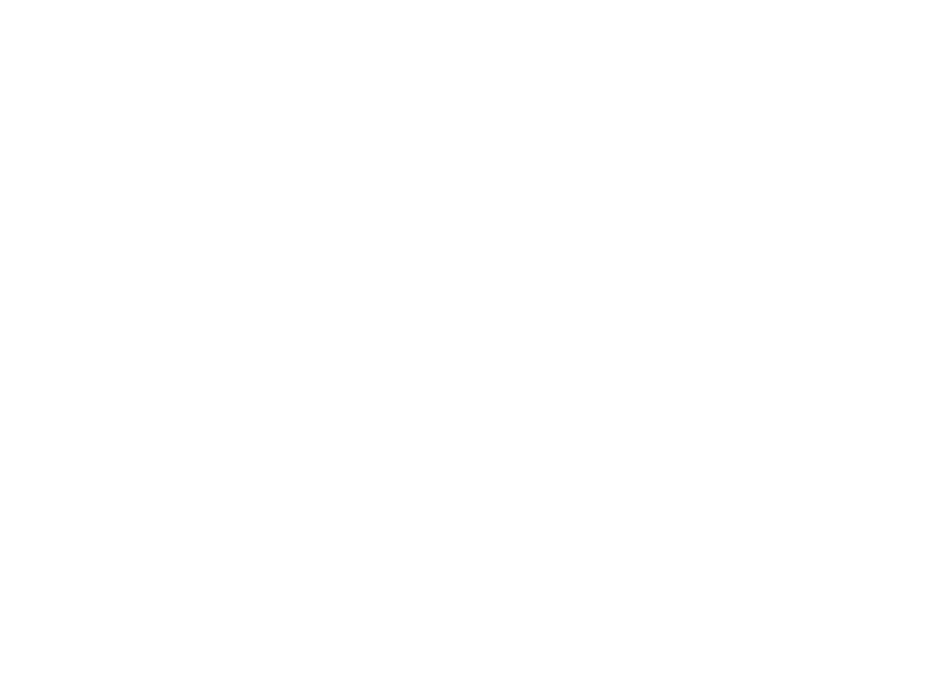
А.Ф. Тютчева, О. Петерсон, 1851 г.
Но ещё большая его беда в том, что, доверяя себе, он не доверял своим подданным и, употребляя всю мощь абсолютистской власти, обрёк их, как граждан, на бездействие и молчание. Он вытоптал молодую траву гражданского общества, выращенную старшим братом, и оказался в результате пленённым и ослеплённым собственными слугами, старательно забивавшими, запугивая царя революцией, цензурный кляп в рот народу, чтобы бесконтрольно и безнаказанно грабить и порабощать его.
Александр Иванович Герцен верно определил, что «всеобщая болезнь русского взяточничества» имеет причиной не какие-то врожденные качества нашего народа, но всего-навсего «тень цензурного древа» и отсутствие политической свободы. «Против него (взяточничества — А.З.) «есть два средства: гласность и совершенно другая организация всей (государственной — А.З.) машины, введение снова народных начал третейского суда, изустного процесса, целовальников (т.е присяжных — А.З.) и всего того, что так ненавидит петербургское правительство». [А.И. Герцен. Былое и Думы. М., 2003. С.221] Эти слова можно вполне обратить и в сегодняшний день. Вы смущаетесь тотальной коррупцией — освободите общество, и коррупция пойдёт на убыль.
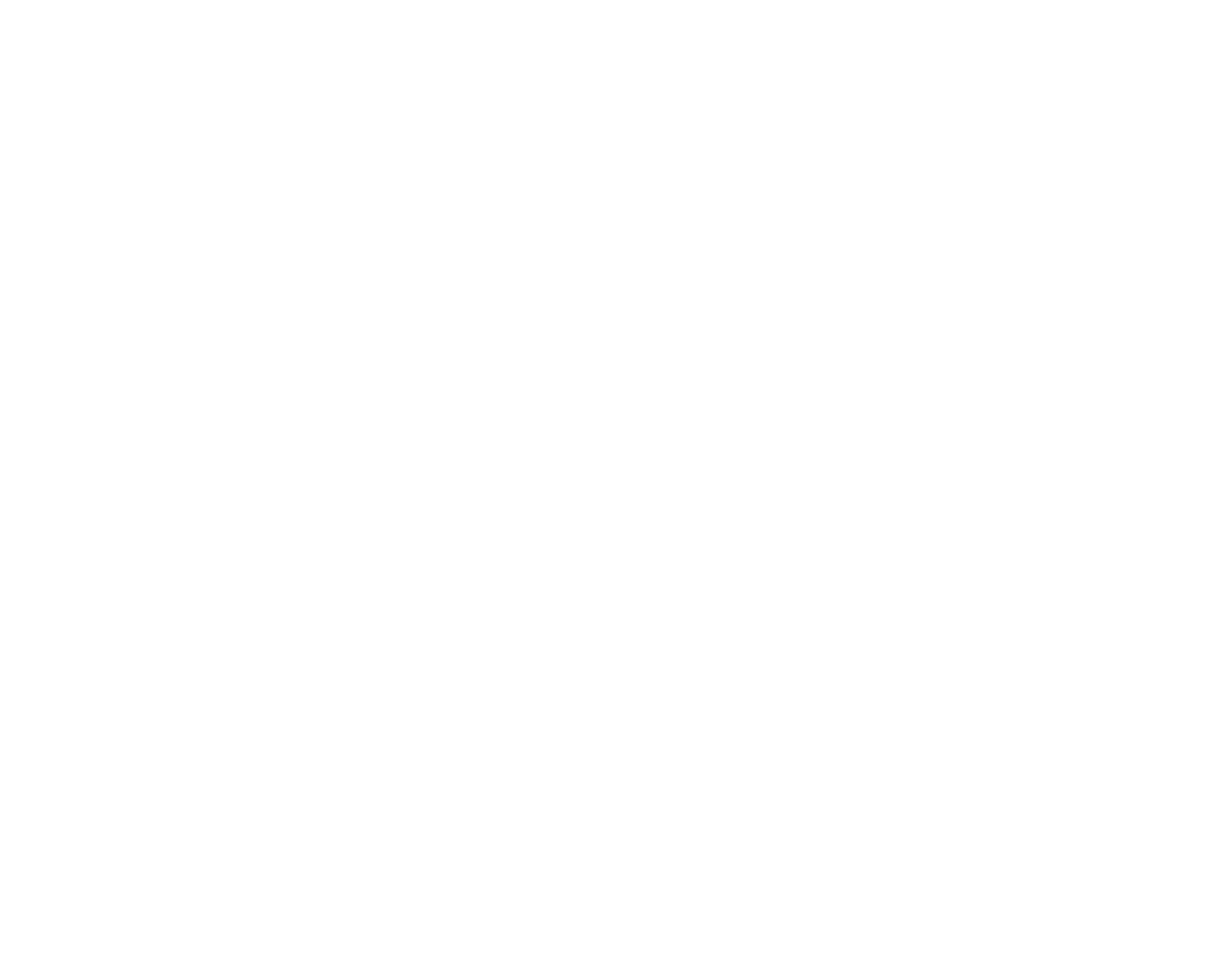
А.И. Герцен, С.Л. Левицкий, 1861 г., Эрмитаж, Санкт-Петербург
Большинство русского общества отнюдь не было противником Николаевского режима. Как это всегда почти бывает, как это было и в ХХ веке с советским режимом, люди сжились с Николаевским царствованием, научились извлекать из него выгоды для себя, во многом даже воспроизводили его. Русское общество привыкло к неестественным для человека отношениям рабов и господ, деспота и безгласных подданных, внедрявшимся в течение всего XVIII столетия самодержавными монархами. Вельможи придворным угодничеством наживали многомиллионные состояния, чиновники почти бесконтрольно воровали и насильничали, помещики — ещё более бесконтрольно распоряжались своими крепостными рабами, их трудом, имуществом, душами и телами, православное духовенство — удобно ограничивалось требоисполнением на непонятном для большинства языке, купцы — подменили свободное соревнование деловой предприимчивости взятками и знакомствами. Даже крепостные крестьяне, нищие и бесправные, вздыхая о земле и воле, в большинстве своём свыклись и находили даже известное удовлетворение в том, что им можно было не думать о завтрашнем дне, не работать сверх сил, чтобы разбогатеть, — фискальная община всё равно переделит землю, барин отберёт излишки, а в голодный год подкормит свои говорящие орудия.
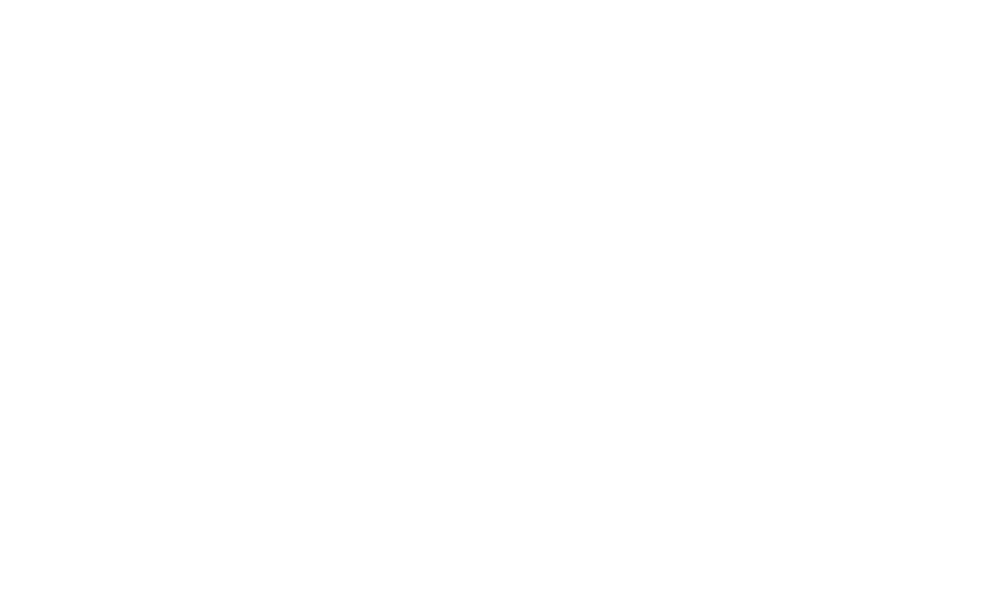
Сатирическая гравюра о бездушном поведении русских помещиков, которые поставили на ставку в карточной игре своих крепостных, Г. Доре, 1854 г.
В эту неестественную, недостойную человека жизнь русское общество вгонялось большой кровью и большим насилием со стороны власти. От Раскола до Пугачевского бунта оно сопротивлялось активно, отстаивало своё достоинство, своё право на свободу. Но абсолютная власть возобладала, и к началу Александрова царствия большинство всех слоёв русского народа своё рабское положение полагало естественным.
Александр, вдохновленный Лагарпом, просвещённый Евангелием, начал, лишь с немногими единомышленниками, невероятное по значительности и сложности дело освобождения русского народа, закабалённого его царственными предками. Он не смог завершить его. В его абсолютизме, направленном на возрождение ответственной гражданственности, ещё косневшее в привычном рабстве большинство увидело угрозу вековому порядку сложившейся, а потому — удобной жизни. Достигшее же гражданского самосознания меньшинство, главным образом дворянская молодежь, — саму фигуру самодержца, сам его абсолютизм полагало совершенно нетерпимым, не делая различий между Александром и его отцом, бабкой, прапрадедом.
Император Александр ушёл, не понятый и отвергнутый почти всеми. Граждански мыслившее меньшинство было разгромлено при подавлении Декабрьского возмущения. Николаевский режим стал реакцией на правление Александра и, подлинно, властью большинства, подавляющего большинства.
Русская литература Золотого века, о которой мы говорили в начале лекции, не имела почти читателей в современной им России. Общее число подписчиков на все русскоязычные газеты и журналы не превышало по всей Империи двенадцать-пятнадцать тысяч в 1843 году. По три тысячи подписчиков имели «Библиотека для чтения», «Северная пчела» и «Отечественные записки», не более чем по пятьсот – «Сын Отечества», «Русский Вестник», «Москвитянин», «Современник», «Санкт-Петербургские Ведомости» и «Московские Ведомости». [Н. Энгельгардт. Очерк истории русской цензуры… - С.160-161]
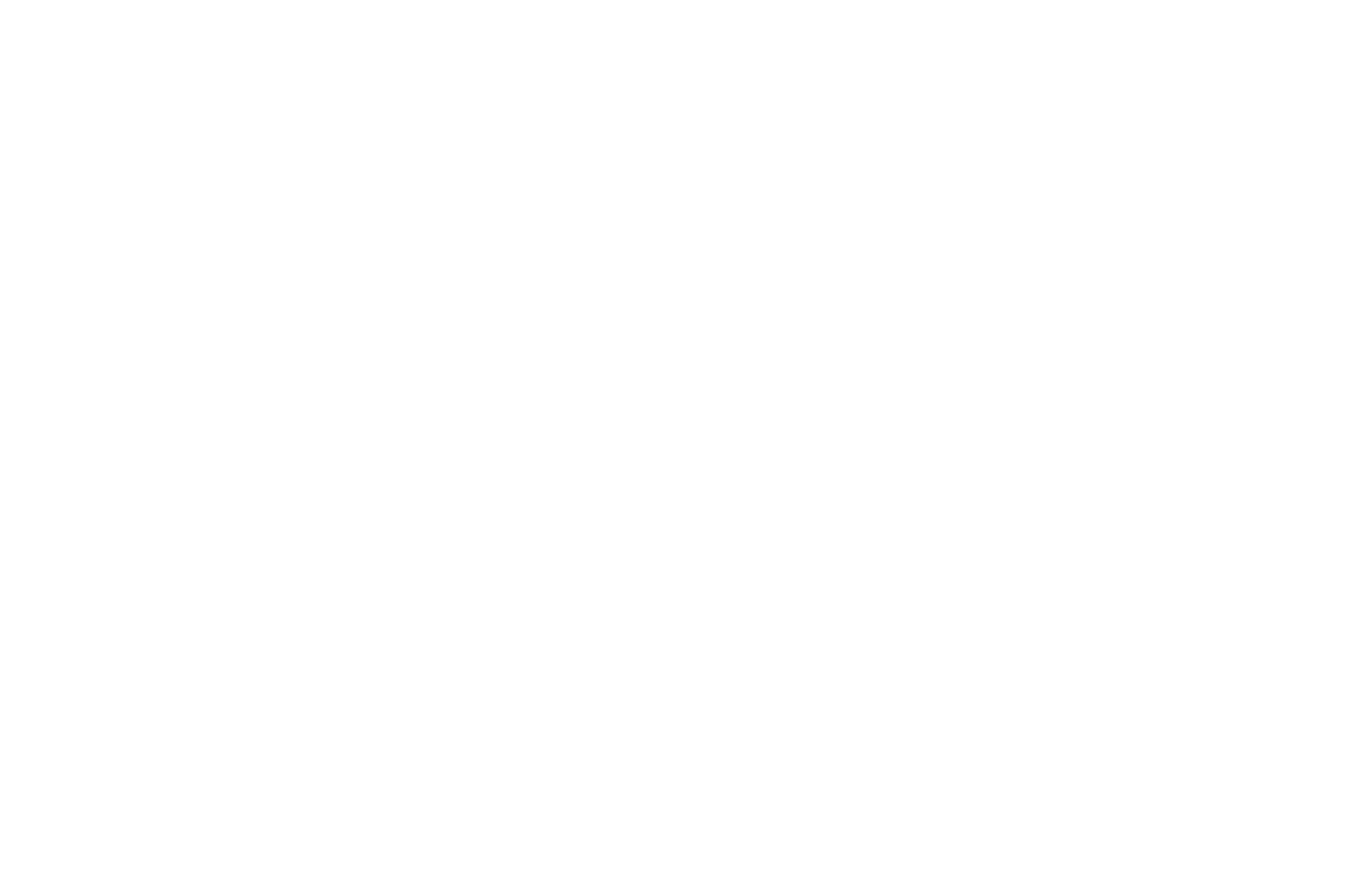
Титульная страница первого тома журнала «Библиотека для чтения», 1834 г.
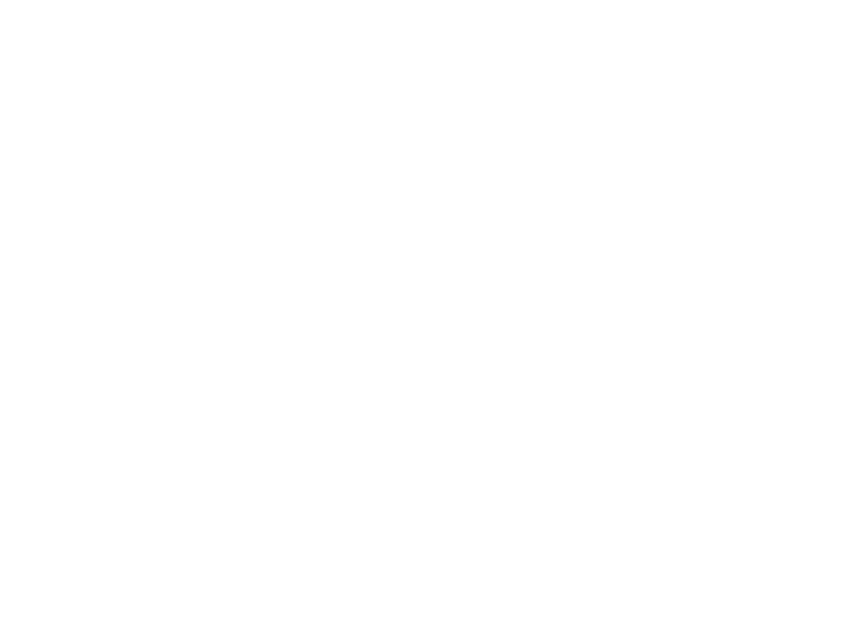
Обложка журнала «Москвитянин», № 1, 1845 г.
Власть не ограничивала масштаб подписки, не определяла тиражи. Здесь правил рынок. Цены на журналы не были высоки, печатались в них прекрасные произведения русской поэзии и прозы, замечательные переводы, интересная критика, порой, несмотря на свирепство цензуры, проскальзывали и первоклассные исторические и философские статьи — время Бутурлинского комитета наступило только через пять лет. А журналы всё равно не выписывались и не читались почти никем. Одна тетрадь, одного журнала — самое меньшее на четыре тысячи человек, на целую дивизию! Да к тому же самыми популярными были самые низкопробные издания — «Библиотека для чтения» Сеньковского-Брамбеуса и «Северная Пчела» Фаддея Булгарина. О каком образованном обществе можно говорить в России второй четверти XIX века?
Сравним это общество, скажем, с обществом перед 1991 годом, когда почти в каждом образованном доме стояли подшивки «Октября», «Нового мира», «Огонька», да и с сегодняшним, когда интернет вошёл, я бы сказал, в 2/3, если не в 3/4 русских домов.
«Читая цензурные постановления николаевского времени можно подумать, что страна переполнена бушующей мыслью, громадная мощная литература и журналистика, полчища писателей владеют умами, направляют общественное мнение. Можно подумать, что горсть сановников и чиновников — цензоров, борется с могучей ратью литераторов, с большой силой. Можно изумиться и всемогуществу этих немногих чиновников, накладывающих колодки на мысль целого народа. Но, вглядевшись, рассмотрев тогдашнюю прессу, литературу, журналистику, видишь, что наши администраторы шли на муху с обухом. Что стоило угнести и даже совсем с лица стереть любому столоначальнику то, что никому почти в целой России было не нужно, непонятно, скучно, что ценили немногие знатоки и редкие любители, за что не поднималось почти голосов в защиту?... Была скудная струйка влаги, сочившаяся в необозримой песчаной степи и чуть журчавшая. Что стоило затоптать ее ботфортом первого попавшегося фельдъегеря?» [Н. Энгельгардт. Очерк истории русской цензуры… - С.131-132]
Это — мнение специалиста и знатока, которого от Николаевской эпохи отделяло всего несколько десятилетий. А современник, генерал фон Бенкендорф, в отчёте по вверенному ему III Отделению Собственной ЕИВ канцелярии в 1836 году констатировал: «Недостаток в хороших учителях и наставниках весьма ощутителен и можно со всею справедливостью сказать, что учебное наше просвещение еще в колыбели». [Россия под надзором. Отчеты III Отделения 1827-1869 гг.М., 2006. С.152-153]
И вот, когда верховная власть не возрождала гражданское общество, а вытаптывала его первые всходы, когда народ был молчаливо солидарен с властью, в «песчаную степь» приходили люди, как правило, младшие сподвижники ушедшего Александра, которые находили в себе силы и ум не уволиться со службы, не затвориться в деревне и не сломаться в угодничестве «новой метле», но продолжать развивать старое Александрово дело безо всякой поддержки трона, но, напротив, в умелом противодействии деспотической воле нового монарха.
Людей таких было очень немного, но ведь и вообще мыслящих и образованных людей мало было в тогдашней России. По подсчётам Николая Полевого, пусть и пристрастным, — «триста — в Петербурге, триста — в Москве, да триста — по усадьбам». Но точно не больше трех-пяти тысяч, если судить по подписке на «умные журналы». И уж совсем немного в Николаевское царствование осталось людей мыслящих и образованных в правящем государственном слое, людей, чувствовавших свою ответственность перед Россией. Все они — воспитанники Александровской эпохи, приближённые Благословенного. Что мог, делал князь Виктор Кочубей, что мог — граф Павел Киселёв, что мог — Сергей Уваров, о котором речь в будущей лекции… Изнутри николаевской системы они действовали против неё, продолжая дело Александра. Но как трудно было в абсолютистской России противостоять воле Суверена… Однако победил не Николай Павлович. Победили, по крайней мере, на полвека, они. А, возможно, они победят и в ближайшее время в будущей России, ведь те семена, которые заложены ими, прорастают до сих пор.
Не прошло и года после воцарения Александра II, и Бутурлинский Комитет был упразднен (6 декабря 1855 года), одновременно была существенно смягчена и предварительная цензура. Через десять лет, 6 апреля 1865 года, был утверждён новый закон о печати, полностью отменявший предварительную цензуру. 4 сентября 1865 года впервые за всё время существования русской печати, вышли в свет произведения печатного слова без предварительного цензурного просмотра и одобрения.
В те же годы в России было учреждено земское самоуправление, свободный гласный суд, отменено крепостное рабство. И результат не заставил себя ждать — к концу XIX столетия коррупция практически исчезла из высших эшелонов государственной власти, полностью — из судов, в существенной степени — из надзорных и правоохранительных органов. Россия, которая, по словам Хомякова «В судах черна неправдой черной / И игом рабства клеймена, / Безбожной лести, лжи тлетворной / И лени мертвой и позорной / И всякой мерзости полна» (А.С. Хомяков, 1854) — эта Россия ушла в прошлое уже к началу царствования тезки и правнука Николая I.
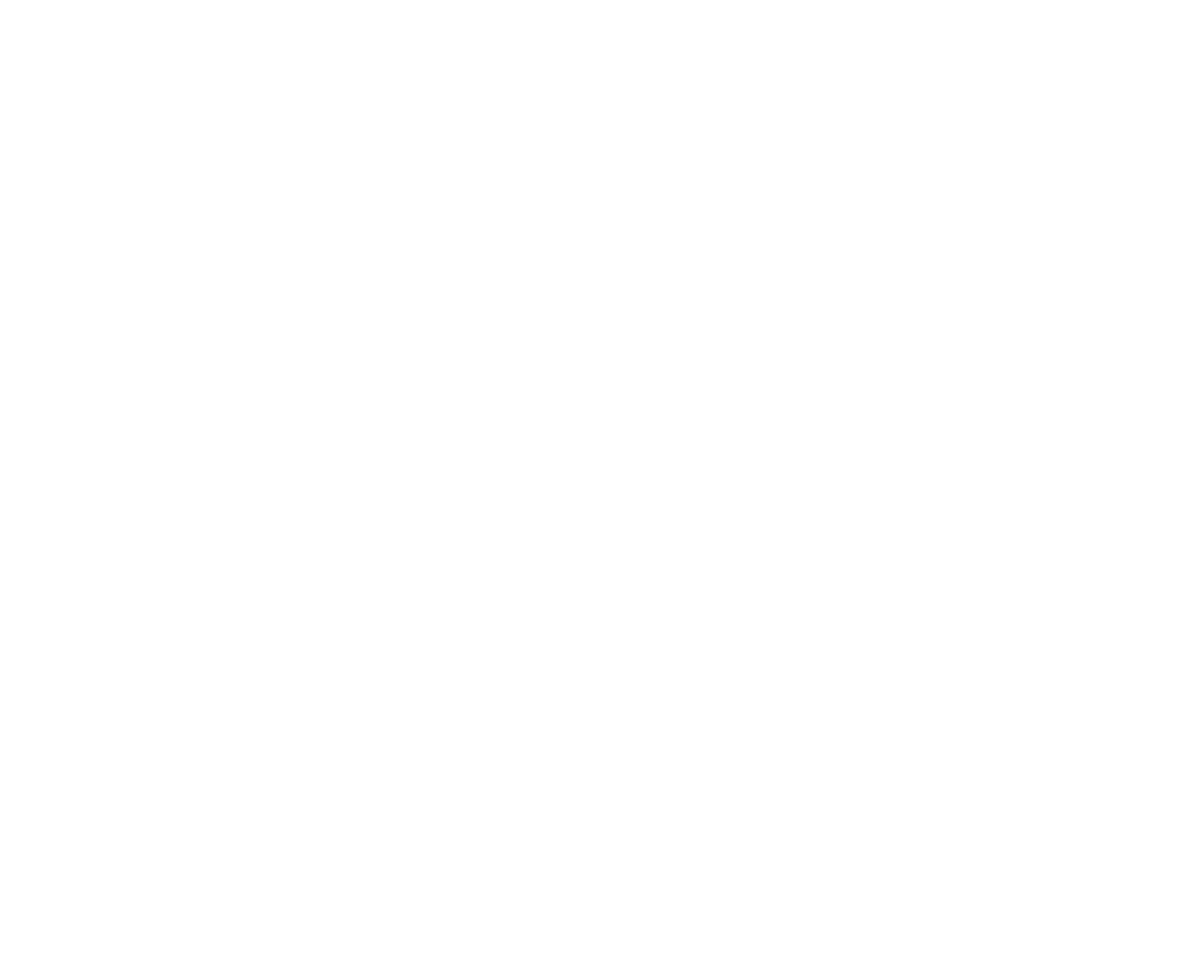
Москва, вид Красной площади, 1890-е гг.
Но шанс абсолютизма был упущен. Общество, задавленное в царствование Николая Павловича, после его смерти и своего освобождения развивалось уже не вместе с царской властью, но самостоятельно и большей частью – против власти. Образованное сословие теперь было уверено, что оно приведёт страну к благоденствию быстрее и прямее, чем абсолютный монарх, а народ, освобождённый, но не просвещённый, мечтал о земле и воле, распоряжение которыми властвующий слой оставил до поры за собой.
Русское общество, разделённое на две неравные части в XVIII столетии, не было воссоединено Николаем Павловичем, а лишь заморожено. И освобождённое Александром II от гнёта тотального абсолютизма, оно продолжало теперь уже самостоятельное движение по расходящимся направлениям, что не могло не привести через несколько десятилетий к невиданной социальной катастрофе, к краху и Российской Империи, и русского народа, и высших и низших его слоёв. Такова цена николаевской ошибки в сфере образования.