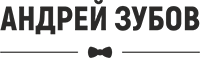КУРС История России. XIX век
Лекция 75
Контрреформа образования
Контрреформа образования
видеозапись лекции
содержание
- Вступление
- Новый Министр Просвещения
- Споры вокруг Университетского устава
- Волнения в университете св. Владимира
- Новый устав
- Борьба исподволь
- Студенты и политика
- Циркуляр «о кухаркиных детях»
- Начальная школа
рекомендованная литература
- Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Том десятый. Царствование Императора Александра III. 1885−1888 годы. СПб., 1894 https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/408926-sbornik-postanovleniy-po-ministerstvu-narodnogo-prosvescheniya-t-10-tsarstvovanie-imperatora-aleksandra-iii-1885-1888
- Обзор деятельности министерства народного просвещения за время царствования императора Александра III. — СПб., Гос.тип. 1902 https://www.prlib.ru/item/433368
- Г.И.Щетинина. Университеты в России и Устав 1884 года; — М; Наука, 1976
- Г.И.Щетинина Университеты и общественное движение в России в пореформенный период, — М; «Исторические записки», 1969
- Университетский Устав (18 августа 1884), Летопись Московского университета: https://letopis.msu.ru/documents/2761
- Е.А.Ростовцев. Университетская реформа 1884 г. в Санкт-Петербургском университете // Научно-технические ведомости СПбГПУ, серия «Гуманитарные и общественные науки»; 2013 https://history.museums.spbu.ru/files/Issledovaniya/publikacii_sotrudnikov/Ustav_1884.PDF
- С.Ю.Витте. Воспоминания 1849—1894, — М.: Соцэкгиз, 1960
- В. Д. Новицкий. Из воспоминаний жандарма, — М.: Издательство МГУ, 1991
- М.Н.Катков. Собрание передовых статей «Московских ведомостей», — М; Издание С. П. Катковой, 1897-1898 https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003519054/
- В.А.Маклаков, Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современника, — М; НЛО, 2023
- Д.А. Кузьминов. Циркуляр «О сокращении числа учеников в гимназиях и прогимназиях и изменении состава оных» и его влияние на сословный состав средних учебных заведений по материалам отчетов гимназий: https://apni.ru/article/1058-tsirkulyar-o-sokrashchenii-chisla-uchenikov
- И.П.Хрущев. Памяти графа И.Д.Делянва; — СПб.: тип. М. Акинфиева и И. Леонтьева, 1898
- Н.А.Троицкий, Контрреформы 1889—1892 гг. Россия в XIX веке: Курс лекций. — М.: Высш. шк., 1997
- Edward С. Thaden. Russia since 1801. The Making of a New Society, Wiley-Interscience, 1971
- М.А.Stuart M. A potent lever for social pro-gress: The Imperial Public Library in the era of the great reforms, The Library Quarterly: Information, Community, Policy, Vol.59, No.3,The University of Chicago Press, 1989
- Sinel A. The Classroom and Chancellery: State Educational Reform in Russia under Count Dmitry Tolstoy. — Cambridge, MA, 1973
текст лекции
1. Вступление
Как я рассказывал в предыдущей лекции, начало эпохи контрреформ ознаменовалось назначением министром внутренних дел Дмитрия Андреевича Толстого. Обычно о контрреформах говорится исключительно в негативном контексте. Но когда я начал изучать это явление глубже, я осознал многогранность той эпохи, которую попытаюсь отразить в лекциях.
Как я рассказывал в предыдущей лекции, начало эпохи контрреформ ознаменовалось назначением министром внутренних дел Дмитрия Андреевича Толстого. Обычно о контрреформах говорится исключительно в негативном контексте. Но когда я начал изучать это явление глубже, я осознал многогранность той эпохи, которую попытаюсь отразить в лекциях.

Барон Александр фон Николаи
Контрреформа образования стала первой. Министр Просвещения барон Александр фон Николаи, назначенный по ходатайству Победоносцева, неожиданно для самого Победоносцева оказался самостоятельным чиновником и противником политики обер-прокурора. Он поддерживал либеральный университетский устав 1863 года, который был принят, когда Министерством Народного Просвещения руководил известный деятель Великих реформ Александр Васильевич Головнин.

Министр народного просвещения граф Ованес (Иван) Делянов.
Фотопортрет С.Левицкого, 1890-е гг.
Фотопортрет С.Левицкого, 1890-е гг.
За самостоятельность Николаи стал жертвой интриги Победоносцева. Ему пришлось подать в отставку 16 марта 1882 года. В тот же день Министром Народного Просвещения был назначен, как говорил Корнилов, «рабски покорный Толстому и Победоносцеву» Ованес (Иван) Давыдович Делянов. Назначение Делянова произошло еще при Министре Внутренних Дел графе Николае Павловиче Игнатьеве, еще за несколько месяцев до того, как его сменил на посту главного министра Империи граф Дмитрий Андреевич Толстой.
2. Новый Министр Просвещения
Ованес Делянов происходил из просвещенного и знатного дворянского армянского рода. Выходцы из него служили России с XVIII века. В 1838 году Ованес окончил юридический факультет Московского университета. За отличную учебу его удостоили большой медали. Студент привлек внимание тогдашнего Министра Внутренних Дел графа Дмитрия Блудова, человека близкого к Пушкину, бывшего члена литературного общества «Арзамас». На пост министра Николаю I рекомендовал Блудова умирающий Карамзин.
Ованес Делянов происходил из просвещенного и знатного дворянского армянского рода. Выходцы из него служили России с XVIII века. В 1838 году Ованес окончил юридический факультет Московского университета. За отличную учебу его удостоили большой медали. Студент привлек внимание тогдашнего Министра Внутренних Дел графа Дмитрия Блудова, человека близкого к Пушкину, бывшего члена литературного общества «Арзамас». На пост министра Николаю I рекомендовал Блудова умирающий Карамзин.
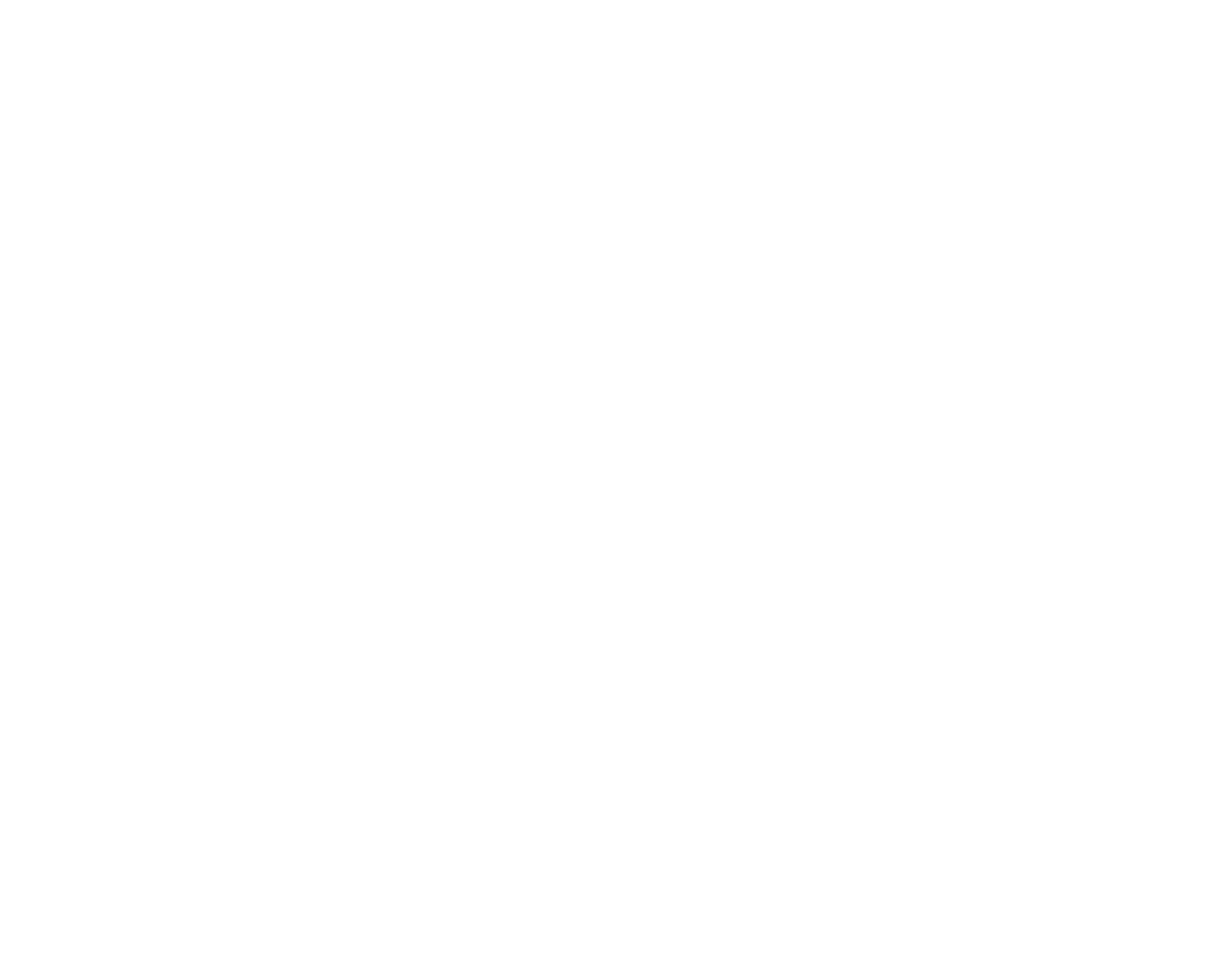
Граф Дмитрий Блудов. Гравюра П.Бореля

Генерал Давид Делянов. Художник Д.Доу, 1820,
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Герб Деляновых (Делакьянов по-армянски — А.З.), который они получили в 1829 году, состоял из кавказского черного орла — на золотом фоне наверху, в верхней части герба; и в нижней части герба — руки в латах, выходящей из облака. Герба удостоили отца Ованеса — генерал-майора Давида Артемьевича (Арутюновича) Делянова, который прошел все битвы наполеоновского времени, вплоть до Заграничного похода. Ованес Делянов получил прекрасное образование, свободно владел основными новыми европейскими языками и латынью. С 6 декабря 1861 года, как раз в эпоху Великих реформ, он возглавил Публичную библиотеку в Санкт-Петербурге, которая и существует и поныне. Тогда это была одной из лучших публичных библиотек Европы и мира. И за двадцать лет управления Деляновым библиотекой туда поступило более полумиллиона единиц хранения, — книг, картин, гравюр, карт. Делянов оказался умелым, рачительным и просвещенным администратором.
С 3 мая 1866 года по 1874 год Делянов занимал пост Товарища Министра Просвещения (первого заместителя — А.З.) графа Дмитрия Толстого. На этом посту проявилось еще одно качество Делянова — он всегда подлаживался под начальство. Имея собственные внутренние ценности и убеждения, он никогда не противопоставлял себя начальникам. Вместе с Толстым Делянов выступал за ограничение университетской автономии и сохранение классической системы образования в гимназиях.
С 3 мая 1866 года по 1874 год Делянов занимал пост Товарища Министра Просвещения (первого заместителя — А.З.) графа Дмитрия Толстого. На этом посту проявилось еще одно качество Делянова — он всегда подлаживался под начальство. Имея собственные внутренние ценности и убеждения, он никогда не противопоставлял себя начальникам. Вместе с Толстым Делянов выступал за ограничение университетской автономии и сохранение классической системы образования в гимназиях.
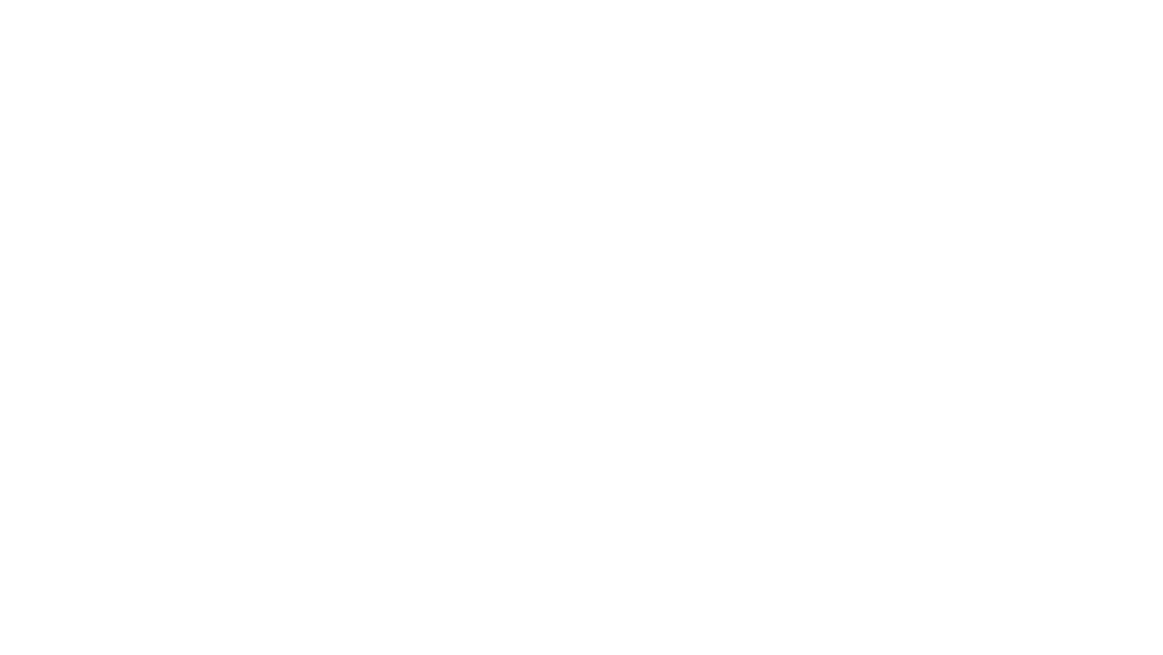
Соколовский корпус Императорской Публичной библиотеки. Худ. Б. Патерсен. 1800-е гг.

Герб Деляновых
Сергей Юльевич Витте так вспоминал о нем: «Делянов был очень милый, добрый человек, и вопросы Министерства Народного Просвещения вообще были ему не чужды. Он был человек культурный, образованный… Он никогда никаких резких вещей не делал, всегда лавировал, держась того направления, которое в то время было преобладающим, а именно направления графа Дмитрия Толстого. Вообще он лавировал на все стороны» [С. Ю. Витте. Воспоминания 1849—1894: Детство. Царствования Александра II и Александра III, глава 15 // — М.: Соцэкгиз, 1960. — Т. 1. — С. 311].
Добрым, очень просвещенным, но безвольным человеком его называют почти все, знавшие его люди.
Добрым, очень просвещенным, но безвольным человеком его называют почти все, знавшие его люди.

Граф Ованес Делянов в последние годы жизни. Фотография 1897 г.
Между служащими Министерства Народного Просвещения Делянов получил кличку «армянский ноль» за то, что полностью следовал воле Победоносцева и Толстого. Он занимал министерское кресло до самой смерти.

Герб графа Делянова
23 ноября 1888 года Делянов получил графский титул. На гербе появился императорский орел с вензелем Александра III, в ознаменование того, что графский титул он получил из рук этого Императора, а над щитом — графская корона. Появился на гербе и девиз Делянова. Его латинский текст звучал несколько иронично, хотя и характерно для Делянова: «IMMOBILIS IN МОВILI», то есть — «Неподвижное в подвижном». Делянов хотел быть незыблемым в подвижном мире, но на самом деле он был вполне «mobile in mobili», — «подвижный в подвижном».

Главный корпус Харьковского практического технологического института.
Фотография 1900 г.
Фотография 1900 г.
Министерство Делянова особое внимание уделяло техническому и промышленному образованию. Просвещенный министр считал, что в этом будущее России. Когда Европа совершала технологический рывок, готовить специалистов в области технологии и промышленности в России было особенно важно. При Делянове в 1885 году открыл двери Харьковский технологический институт, а в 1888 году - первый в Сибири знаменитый Томский университет. Во многих городах открылись средние и низшие технические промышленные училища. Министерство пересмотрело учебные планы классических гимназий, где за счет древних языков было значительно расширено преподавание русского языка.

Церемония закладки Сибирского университета в Томске.
Рисунок М.Е..Малышева, журнал «Всемирная иллюстрация», 1880 г.
Рисунок М.Е..Малышева, журнал «Всемирная иллюстрация», 1880 г.
В предыдущей лекции я рассказывал, что Дмитрий Андреевич Толстой был большим ревнителем классического образования. Делянов естественно его в этом поддерживал. Но на самом деле он не был таким уж фанатиком классических языков и текстов. Делянов знал, что император Александр III классические языки практически не знал и любил все русское. Поэтому он хитро провел программу расширения знаний русского языка за счет сокращения греческого и латыни. Послушный власти Дмитрий Андреевич Толстой воспротивиться императору и Победоносцеву не мог.

Армянская церковь Воскресения Христова на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Фотография И.Феденко, 2010 г.
Ованес Делянов умер 29 декабря (10 января) 1897 года. Его похоронили в усыпальнице Воскресенской церкви в армянской части Смоленского кладбища Петербурга.
3. Споры вокруг Университетского устава
Каждый русский император, начиная с Александра I, когда начала развиваться система образования в России, создавал свой университетский устав. До Александра I в России существовал единственный Московский университет, открытый при императрице Елизавете Петровне и находившийся в довольно плохом состоянии. При Александре I открылись сразу несколько университетов — Петербургский, Харьковский, Казанский. Для регулирования их жизни потребовался университетский устав. В 1804 году Александр I утвердил первый либеральный университетский устав с широкой автономией университетов.
Николай I в 1835 году в соответствии со своими воззрениями принял новый консервативный университетский устав. В нем исчезли такие свободы как избрание ректоров университетов профессурой и приглашение новых профессоров и доцентов университетским советом, состоящим из профессоров. Фактически Николай I ликвидировал университетское самоуправление.
Каждый русский император, начиная с Александра I, когда начала развиваться система образования в России, создавал свой университетский устав. До Александра I в России существовал единственный Московский университет, открытый при императрице Елизавете Петровне и находившийся в довольно плохом состоянии. При Александре I открылись сразу несколько университетов — Петербургский, Харьковский, Казанский. Для регулирования их жизни потребовался университетский устав. В 1804 году Александр I утвердил первый либеральный университетский устав с широкой автономией университетов.
Николай I в 1835 году в соответствии со своими воззрениями принял новый консервативный университетский устав. В нем исчезли такие свободы как избрание ректоров университетов профессурой и приглашение новых профессоров и доцентов университетским советом, состоящим из профессоров. Фактически Николай I ликвидировал университетское самоуправление.

Императорский Томский университет. Почтовая открытка начала XX в.
При Александре II и министре Головнине университетский устав вновь либерализовали, — вернули самоуправление почти равное по уровню уставу 1804 года. Когда Министром Просвещения при Александре II стал граф Дмитрий Толстой, он внес в Госсовет 6 февраля 1880 года новый консервативный проект университетского устава. Дело в том, что либеральный устав Головнина привел к тому, что в гимназии стали принимать больше детей из третьего сословия, а потому намного больше студентов стало приходить из третьего сословия - после гимназии разночинцы смогли легче поступать в университеты.

Титульный лист Университетского устава 1863 года.
Александр II дал еще много льгот разночинцам в области образования. Государство давало малоимущим пособия, создавало бесплатные подготовительные классы для поступления в гимназии. В университеты стала поступать крестьянская молодежь и бедные мещане. Беда заключалась в том, что эти ребята, к сожалению, не знали культуры образования. Они поступали в университет ради статуса и карьеры, но они не умели, не хотели и не любили учиться. Не все, – среди них были и те, кто прекрасно учились, стали великими учеными, знаменитыми государственными деятелями. Но большинство разночинцев увлекалось студенческой жизнью и революционными идеями, распространяемыми «Народной волей», а университетское образование превращалось для них в проформу.

«Из жизни Томского студенчества». Сатирическая открытка
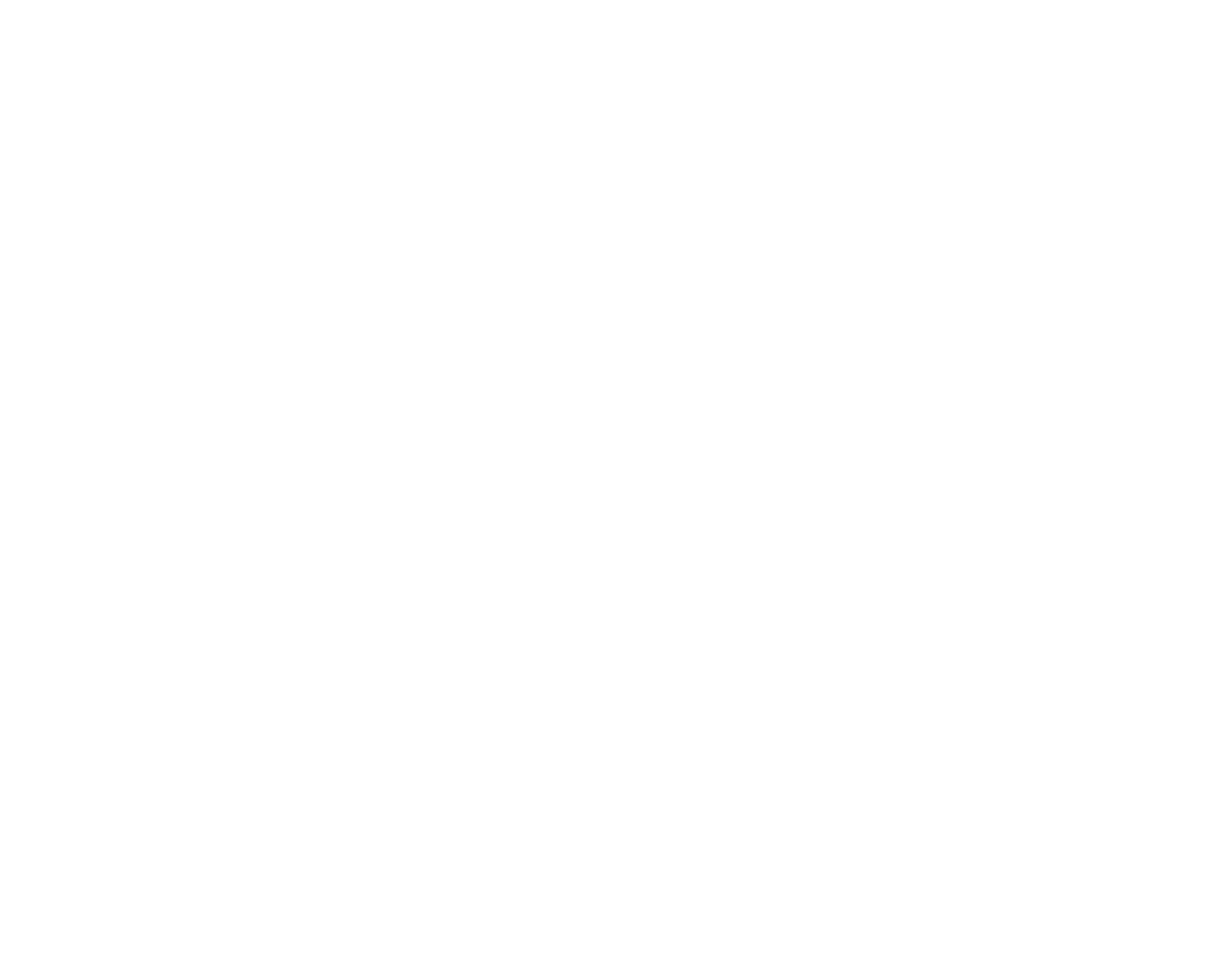
Открытка из цикла «Типы студентов»
Многие профессора тоже шли путем наименьшего сопротивления. Видя отсутствие интереса студентов, они плохо готовились к лекциям. Трудолюбивые, честные и талантливые профессора продолжали преподавать на высоком, часто, на европейском уровне. Вокруг них группировались небольшие кружки студентов, стремящихся к знаниям. Но большинство жило вне этих кружков, группировалось по политическим воззрениям и занималось политиканством.
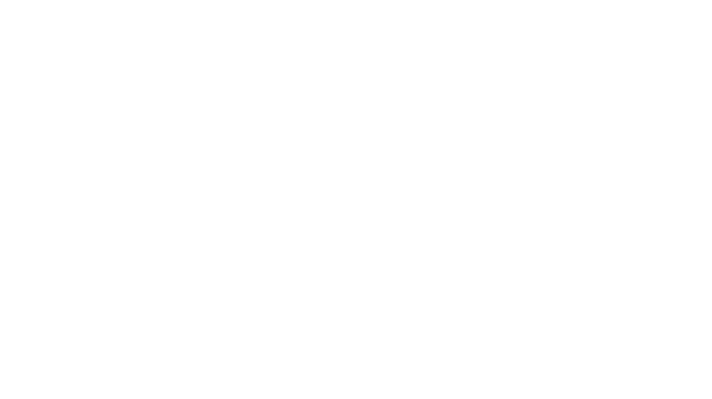
Студенты и преподаватели Императорского Санкт-Петербургского университета. Фотография 1903 г.
Именно поэтому граф Дмитрий Андреевич Толстой предложил новый устав, который возвратил бы государственный контроль над университетским образованием. Сам Толстой был человеком весьма образованным, и предполагал, что образованные бюрократы зададут иной, более организованный и жесткий вектор образованию в России. Предполагалось, что чиновники Министерства просвещения талантливее, умнее и образованнее студентов и профессоров университетов. На самом же деле многие из них сами еще вчера покинули студенческую скамью.
В 1880 году у Толстого ничего не вышло. Граф Лорис-Меликов увидел в попытке реформы ретроградный акт — стремление вернуться к традициям царствования Николая I. Лорис-Меликов уволил графа Толстого 24 апреля 1880 года и назначил на его место просвещенного и деятельного, противника проекта устава 1880 года Андрея Александровича Сабурова.
В 1880 году у Толстого ничего не вышло. Граф Лорис-Меликов увидел в попытке реформы ретроградный акт — стремление вернуться к традициям царствования Николая I. Лорис-Меликов уволил графа Толстого 24 апреля 1880 года и назначил на его место просвещенного и деятельного, противника проекта устава 1880 года Андрея Александровича Сабурова.
Толстой затаил злобу на графа Лорис-Меликова и ждал момента, чтобы на нем отыграться. Единомышленника Толстой нашел в знаменитом публицисте Михаиле Никифоровиче Каткове. Как писал американский исследователь Эдвард Таден: «Катков в своих письмах к новому Императору и в газете „Московские ведомости” (он был главным редактором этой газеты — А.З.) настаивал, что университетская автономия помогает создавать в университетах дух нигилизма, либерализма и революционного радикализма» [Edward С. Thaden. Russia since 1801. The Making of a New Society, Wiley-Interscience, 1971, P.304]. Статьи Каткова не были вовсе беспочвенными. Университетская среда, действительно стала рассадником не столько либерализма, сколько нигилизма и радикализма.
Через две недели после назначения министром Ованес Делянов 30 марта 1882 года внес в Государственный Совет проект нового авторитарного университетского устава. Его проект фактически повторяет проект Толстого 1880 года. Члены Государственного Совета проект раскритиковали, хотя отлично знали настроения Делянова и Толстого, но при Министре Внутренних Дел Игнатьеве дышалось еще свободно. Документ членов Совета не устроил тем, что менял порядок назначения на ключевые должности, например, на должность ректора.
Через две недели после назначения министром Ованес Делянов 30 марта 1882 года внес в Государственный Совет проект нового авторитарного университетского устава. Его проект фактически повторяет проект Толстого 1880 года. Члены Государственного Совета проект раскритиковали, хотя отлично знали настроения Делянова и Толстого, но при Министре Внутренних Дел Игнатьеве дышалось еще свободно. Документ членов Совета не устроил тем, что менял порядок назначения на ключевые должности, например, на должность ректора.
Большинство членов Государственного Совета прекрасно понимали политическую проблему нового устава. Перед государством лежало два пути.
Первый — поддержать внутреннюю самоорганизацию университетской системы, — путь автономии, всегда болезненный, трудный, с откатами. Предполагалось, что, в конце концов, хорошие ректоры, профессора, и студенты переломят ситуацию в университетах, — плохие выпускники останутся не востребованными, а уровень образования повысится.
Второй вариант, — не ждать естественных изменений и применить государственный рычаг. Эту мысль поддерживал Победоносцев. Она предполагала, что студенты и профессора — безответственные дети, и только почему-то государственные чиновники, министры, начальники департаментов и Государь Император обладают некими особым знанием и мудростью.
Первый — поддержать внутреннюю самоорганизацию университетской системы, — путь автономии, всегда болезненный, трудный, с откатами. Предполагалось, что, в конце концов, хорошие ректоры, профессора, и студенты переломят ситуацию в университетах, — плохие выпускники останутся не востребованными, а уровень образования повысится.
Второй вариант, — не ждать естественных изменений и применить государственный рычаг. Эту мысль поддерживал Победоносцев. Она предполагала, что студенты и профессора — безответственные дети, и только почему-то государственные чиновники, министры, начальники департаментов и Государь Император обладают некими особым знанием и мудростью.

Киевский Императорский университет св. Владимира (ныне КГУ им. Тараса Шевченко), Открытка начала XX в.
В каждом пути была своя правда. Обратим внимание, что Госсовет не согласился с мнением нового министра. Император выжидает, хотя ему ближе идея консервативного устава, за которую ратовали Победоносцев и Толстой. Царь не спешил одобрять законопроект Делянова, хотя юридически имел право согласиться с мнением меньшинства. Он видел, что большинство уважаемых членов Госсовета выступают против инициативы Делянова.
4. Волнения в университете св.Владимира
Конец дискуссии и сдержанности императора положили события в Киевском университете Святого Владимира в июле 1884 года.
Университет Святого Владимира моложе университетов Москвы, Петербурга, Казани и Харькова. Он был основан в 8/20 ноября 1833 года после Первого Польского восстания и открыт как раз в день памяти святого князя Владимира, то есть 15 /28 июля 1834 года.
Киевский университет задумывался как новая образовательная площадка для сложного сообщества людей Западной Руси. Туда входили поляки (во всей Правобережной Украине помещики были в основном польские — А.З.). Там учились и преподавали и украинцы, в их числе горячие украинофилы, и русские, которые сталкиваясь с украинофильством и полонизмом, естественно, тоже проникались горячим национализмом. То есть этот университет находился на пике конфессиональных (речь идет о православных и католиках — А.З.) и этнических страстей, ведь по всей Европе конец XIX века – это расцвет национализма.
До Второго Польского восстания 1863 года университет оставался преимущественно польским. Профессора читали лекции на польском языке, студенты говорили большей частью по-польски. Сильна была и украинофильская община. Украинофильская по духу, но не по крови: польские интеллигенты могли поддерживать украинское образование, а люди с украинскими фамилиями часто выступали за традиционное образование на русском языке.
Конец дискуссии и сдержанности императора положили события в Киевском университете Святого Владимира в июле 1884 года.
Университет Святого Владимира моложе университетов Москвы, Петербурга, Казани и Харькова. Он был основан в 8/20 ноября 1833 года после Первого Польского восстания и открыт как раз в день памяти святого князя Владимира, то есть 15 /28 июля 1834 года.
Киевский университет задумывался как новая образовательная площадка для сложного сообщества людей Западной Руси. Туда входили поляки (во всей Правобережной Украине помещики были в основном польские — А.З.). Там учились и преподавали и украинцы, в их числе горячие украинофилы, и русские, которые сталкиваясь с украинофильством и полонизмом, естественно, тоже проникались горячим национализмом. То есть этот университет находился на пике конфессиональных (речь идет о православных и католиках — А.З.) и этнических страстей, ведь по всей Европе конец XIX века – это расцвет национализма.
До Второго Польского восстания 1863 года университет оставался преимущественно польским. Профессора читали лекции на польском языке, студенты говорили большей частью по-польски. Сильна была и украинофильская община. Украинофильская по духу, но не по крови: польские интеллигенты могли поддерживать украинское образование, а люди с украинскими фамилиями часто выступали за традиционное образование на русском языке.

Хлопоманы – выходцы из польских шляхетских семей. Онуфрий Хвойновский, Викентий Василевский, Владислав Винарский, Тадей Рыльский, Владимир Антонович, 1851-1861 гг.
После Польского восстания власти превратили университет в русскоязычный. Польских студентов по-прежнему принимали, но писать и говорить публично они были вынуждены на русском языке и не могли демонстрировать свои национальные чувства.
Во время Второго Польского восстания в университете произошел инцидент: В актовом зале университета в позолоченной рамке висел декрет Николая I от 1833 года о создании университета Святого Владимира. Солидарные с восстанием польские студенты рамку разбили, декрет вытащили и порвали. Этот поступок возмутил и русских, и украинцев, — они набросились на поляков. Студенты друг друга сильно избили. После инцидента власти заставили студентов-поляков вести себя скромнее.
Университетские брожения и политиканство разбалтывали образование. Это неизбежное следствие Великих реформ, когда в обществе сразу стало очень много свободы. Профессура тоже включилась в политическую свару.
Во время Второго Польского восстания в университете произошел инцидент: В актовом зале университета в позолоченной рамке висел декрет Николая I от 1833 года о создании университета Святого Владимира. Солидарные с восстанием польские студенты рамку разбили, декрет вытащили и порвали. Этот поступок возмутил и русских, и украинцев, — они набросились на поляков. Студенты друг друга сильно избили. После инцидента власти заставили студентов-поляков вести себя скромнее.
Университетские брожения и политиканство разбалтывали образование. Это неизбежное следствие Великих реформ, когда в обществе сразу стало очень много свободы. Профессура тоже включилась в политическую свару.

Студенты Киевского университета. Второй справа – будущий этнограф и хлопоман Тадей Рыльский. 1850 г.
Настроения в киевском студенчестве хорошо описал начальник Киевского жандармского управления полковник Василий Дементьевич Новицкий. Этот полицейский офицер был человеком эпохи Великих реформ — культурным, просвещенным, придерживался либеральных взглядов. Вот как Новицкий описал ситуацию в университете Святого Владимира:
«Студенчество в общем занятиями и наукою всецело пренебрегало, занималось исключительно политикою и устройством внутренних беспорядков на всевозможной почве, что поддерживалось извне политическими агитаторами, свободно входившими в здание университета и в его аудитории и кабинеты. Профессора университета в большинстве относились пренебрежительно к занятиям и на лекции в большинстве не являлись даже, что значительно расшатало университет и учащуюся в нем молодежь, которая также стала пренебрежительно относиться к науке, как и гг. профессора к своим обязанностям, через что явилась полная распущенность студентов, не знавших границ своему своеволию в университетском здании и на улицах. Введенные в университеты — ограничительный процентный прием евреев и инспекция — ничему не помогли и ничто не восстановили, а введенная автономия окончательно разрушила университеты во всем, и они функционировать перестали на долгое время.
«Студенчество в общем занятиями и наукою всецело пренебрегало, занималось исключительно политикою и устройством внутренних беспорядков на всевозможной почве, что поддерживалось извне политическими агитаторами, свободно входившими в здание университета и в его аудитории и кабинеты. Профессора университета в большинстве относились пренебрежительно к занятиям и на лекции в большинстве не являлись даже, что значительно расшатало университет и учащуюся в нем молодежь, которая также стала пренебрежительно относиться к науке, как и гг. профессора к своим обязанностям, через что явилась полная распущенность студентов, не знавших границ своему своеволию в университетском здании и на улицах. Введенные в университеты — ограничительный процентный прием евреев и инспекция — ничему не помогли и ничто не восстановили, а введенная автономия окончательно разрушила университеты во всем, и они функционировать перестали на долгое время.
Воспитанники гимназий, поступившие в университет, были распропагандированы в противоправительственном духе и направлении еще в гимназиях и совершенно ни к чему подготовлены не были, в большинстве были не только полуграмотные, но безграмотные на русском языке, которого совершенно не знали; приходилось мне производить допросы этих гимназистов-политиканов, поступивших в университет, и они не в состоянии были не только изложить свои показания на бумаге, но даже не могли писать под диктовку и делали такие ошибки в правописании, что я в ужас становился от мысли, что этот студент, бывший гимназист, мог получить гимназический аттестат. Видимо, что в гимназиях ни на что не обращалось внимания, и преподавание шло плачевным порядком, если не сказать более. Большинство студентов университета совершенно далеко стояло от получения высшего образования и к науке относилось более чем презрительно. Мне приходилось знать массу студентов лично, но весьма немногие из них относились серьезно к науке и занимались; большинство же только числилось в числе студентов, находя это даже выгодным в материальном отношении, через получение денежных пособий, а другое большинство ровно ничего не делало и время проводило праздно, при этом непременно занималось политикою, что считалось молодцеватостью и непременным условием пребывания в студенческой среде, в которую врывались агитаторы и вносили полное разложение студенчества как в товарищеском обществе, семейном быту, так и по отношению к науке» [В. Д. Новицкий. Воспоминания тяжелых дней моей службы в Корпусе Жандармов — Из воспоминаний жандарма, — М.: Изд-во МГУ : СП «Ост-Весткорпорейшен», 1991, С.3-20].
В какой-то степени описание Новицкого характерно для всех русских университетов того времени, хотя градус хаоса в университете Святого Владимира по причинам национально-конфессиональных противоречий был выше, чем в Петербурге, Москве, Казани или Харькове.
В какой-то степени описание Новицкого характерно для всех русских университетов того времени, хотя градус хаоса в университете Святого Владимира по причинам национально-конфессиональных противоречий был выше, чем в Петербурге, Москве, Казани или Харькове.

Генерал-адъютант Александр Дрентельн, Киевский, Волынски и Подольский генерал-губернатор, 1888 г. Фотография из сборника Министерство внутренних дел. 1802-1902. Исторический очерк. - СПб: Тип. Министерства внутренних дел, 1901.
В юбилейный 1884 год Александр III пожертвовал Свято-Владимировскому университету 200 тысяч рублей на устройство клиник. Вроде бы все прекрасно: развитие медицины для России важный приоритет, - в стране катастрофически не хватало врачей. Но пожертвование на клиники возмутило студентов-бунтарей, не желавших принимать подачки, как они говорили, «от царя вешателя» (Александр III распорядился повесить убийц своего отца императора Александра II — А.З.) Революционно настроенные студенты видели себя уже в царстве народной свободы, когда не какой-то царь, а они сами управляют Россией. Они решили сорвать торжественный акт, на котором министры и генерал-губернатор должны были благодарить за царский дар. Тогда ректор приказал на мероприятие пускать только благонадежных студентов, которых знал лично он или надежные профессора, а остальных не пускать. Это означало не пускать 80% студентов университета. Актовый зал во время торжества оказался полупустым.

Киевские студенты, фотография конца XIX в.
Вот как этот день вспоминал полковник Новицкий: «День юбилейного акта прошел сравнительно благополучно; насилия студентов, не впущенных в здание университета, на улице не сопровождались ни драками, ни ранениями, ни кровью. Большая толпа студентов, стоявшая на Бибиковском бульваре (ныне бульвар Тараса Шевченко — А.З.), имевшая в руках камни, поленья дров и яблоки, пыталась лишь прорваться в здание через сильный полицейский наряд, поддержанный войсками, но не достигла этого, была удержана, но проезжавших на акт должностных лиц ругала и бросала предметы. Так, в карету генерал-губернатора был брошен камень, на что генерал-адъютант Дрентельн пригрозил пальцем; в карету попечителя Голубцова было брошено полено от дров (со времен Александра I каждый округ имел попечителя, который обеспечивал связь между Императором, Министром Народного Просвещения и университетом — А.З.), но ни камень, ни полено не попали в генерал-адъютанта Дрентельна и Голубцова. Проезжавший же в университет обер-прокурор синода Победоносцев был освистан толпою студентов, а брошенный в него предмет не долетел до экипажа. Юбилей в здании прошел относительно благополучно, но беспокойно для присутствовавших, ожидавших ежеминутно врыва в помещение студентов, рвавшихся через цепь городовых и войск. Этим день юбилея и окончился днем, но вечером того же дня студенты и толпа, пользуясь темнотою, подойдя к квартире ректора Ренненкампфа на Кузнечной улицепроизвели нападение на дом, выразившееся лишь в разбитии стекол и бросанием в них камнями внушительных размеров, кои падали в квартиру, где находилось семейство Ренненкампфа и приглашенные на обед профессора Романович-Славатинский, Сидоренко, Субботини др.» [В. Д. Новицкий. Воспоминания тяжелых дней моей службы в Корпусе Жандармов — Из воспоминаний жандарма, — М.: Изд-во МГУ : СП «Ост-Вест корпорейшен», 1991, С.3-20].
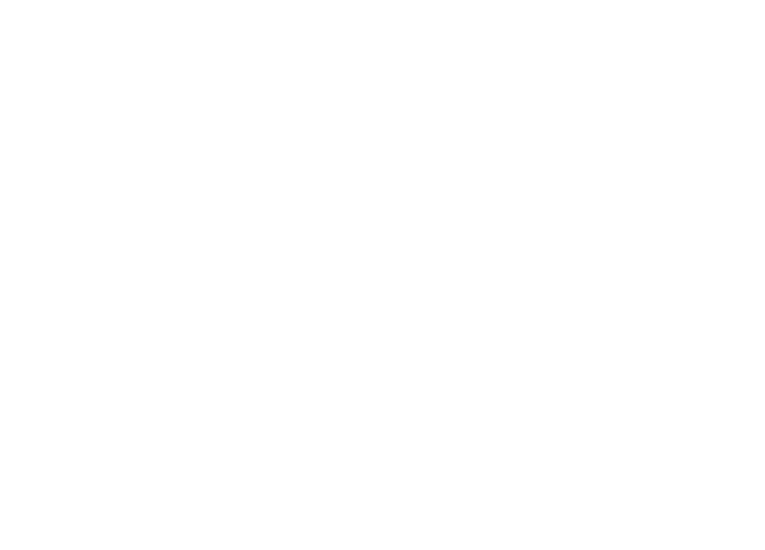
Николай Карлович Ренненкампф, ректор Киевского университета св. Владимира,
фотография с сайта Томского государственного университета
фотография с сайта Томского государственного университета
Все обошлось без кровопролития и выстрелов полицейских. Студентов не избивали, не бросали на землю, не ломали им руки и ноги, как принято сейчас в Москве. Все было намного более культурно. Но после этого Александр III понял, что медлить нельзя, и он решил принять позицию меньшинства Госсовета, поддержавшего идею нового университетского устава, лоббируемого Победоносцевым, Катковым и графом Дмитрием Толстым.
5. Новый устав
15 /27 августа 1884 года Император уполномочил Сенат ввести в действие новый университетской устав. Данный нормативно-правовой акт объявлялся основным документом для регламентации деятельности Московского, Санкт-Петербургского, Харьковского, Казанского и Новороссийского (в Одессе — А.З.) университетов, а также университета Святого Владимира в Киеве. Позже действия этого устава было распространено на Варшавский, Дерптский (ныне – Тартусский) и Томский университеты.
Как пишет Эдвард Таден: «После 1884 г. ограничительные и узко классовые идеи, исповедуемые Катковым, Толстым и Деляновым доминировали в русском среднем и высшем образовании» [Edward С. Thaden. Russia since 1801. The Making of a New Society, Wiley-Interscience, 1971, P.- 304].
15 /27 августа 1884 года Император уполномочил Сенат ввести в действие новый университетской устав. Данный нормативно-правовой акт объявлялся основным документом для регламентации деятельности Московского, Санкт-Петербургского, Харьковского, Казанского и Новороссийского (в Одессе — А.З.) университетов, а также университета Святого Владимира в Киеве. Позже действия этого устава было распространено на Варшавский, Дерптский (ныне – Тартусский) и Томский университеты.
Как пишет Эдвард Таден: «После 1884 г. ограничительные и узко классовые идеи, исповедуемые Катковым, Толстым и Деляновым доминировали в русском среднем и высшем образовании» [Edward С. Thaden. Russia since 1801. The Making of a New Society, Wiley-Interscience, 1971, P.- 304].
Это лишь отчасти так. В советское время устав Александра III фундаментально разобрала историк Галина Исидоровна Щетинина [Г.И. Щетинина, Университеты в России и Устав 1884 года. М., 1976]. Её выводы весьма существенны.
По новому уставу ректор и деканы не избирались советом университета и советом факультета, а назначались попечителем учебного округа. Срок их деятельности увеличивался с трех до четырех лет. Министерство Просвещения само составляло программы образования на факультетах.
Степень контроля над студентами резко возросла. Запрещались студенческие корпоративные организации и сходки. В случае протеста студенты наказывались вплоть до изгнания из университета и отдачи в солдаты. Вводилась должность инспектора университета, следящего за дисциплиной. Его назначал попечитель округа.
По новому уставу ректор и деканы не избирались советом университета и советом факультета, а назначались попечителем учебного округа. Срок их деятельности увеличивался с трех до четырех лет. Министерство Просвещения само составляло программы образования на факультетах.
Степень контроля над студентами резко возросла. Запрещались студенческие корпоративные организации и сходки. В случае протеста студенты наказывались вплоть до изгнания из университета и отдачи в солдаты. Вводилась должность инспектора университета, следящего за дисциплиной. Его назначал попечитель округа.

Студент Санкт-Петербургского университета в форме, 1880-е гг.
Студентов обязали носить форму. До этого времени студенты одевались вольно. Эта вольность была внешним проявлением внутренней свободы. У властей всегда было стремление усилить внутреннюю дисциплину, определить ее внешнюю сторону мундиром ли, волосяным ли покровом лица. И от нас требовали одеваться более-менее определенным образом, следили за этим. Когда я учился в МГИМО (в 1968-1973 гг. — А.З.) , студентам строго не разрешалось носить бороды. Два человека отпустили в университете бороды — я и китаист Пименов. За это нас третировали. Девушки с факультета журналистики нам сочувствовали, им нравились молодые люди с бородой. Спорить с этим публично студентки не могли, но в университетской газете «Международник» они напечатали статью о каком-то американском преподавателе, которого выгнали из университета за то, что он носил бороду и опубликовали фотографию симпатичного бородатого человека лет сорока. Эта статья стала как бы жестом поддержки нам.
В 1860-70-х годах среди студентов шиком считалось носить длинные волосы и широкополую шляпу, при этом нельзя сказать, что волосы всегда были аккуратными. Облик такого студента передает картина Николая Ярошенко «Студент», написанная в 1881 году. Верхом студенческой элегантности считались тогда очки и плед на плечах, что придавало молодым людям серьезность и ученый вид. Если ты в очках и с пледом, то ты хочешь учиться. Если ты в шляпе и с длинными волосами и клочной бородой, — значит ты хочешь заниматься политикой и общественными делами. Так что, студенческие волнения и студенческое свободомыслие — это отнюдь не порождение ХХ века, — времени студенческих волнений на Западе в 1968 -1973 годах.
В 1860-70-х годах среди студентов шиком считалось носить длинные волосы и широкополую шляпу, при этом нельзя сказать, что волосы всегда были аккуратными. Облик такого студента передает картина Николая Ярошенко «Студент», написанная в 1881 году. Верхом студенческой элегантности считались тогда очки и плед на плечах, что придавало молодым людям серьезность и ученый вид. Если ты в очках и с пледом, то ты хочешь учиться. Если ты в шляпе и с длинными волосами и клочной бородой, — значит ты хочешь заниматься политикой и общественными делами. Так что, студенческие волнения и студенческое свободомыслие — это отнюдь не порождение ХХ века, — времени студенческих волнений на Западе в 1968 -1973 годах.

Студент. Художник Николай Ярошенко, 1881,
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Государственная Третьяковская галерея, Москва
В университетах появился институт педелей. Педели были низшими служителями университетской инспекции и исполняли поручения инспекторов, фактически выступали надзирателями. Они должны были следить за соблюдением формы одежды и поведением студентов между занятиями, а также отмечать посещаемость. Педелей набирали из отставных солдат и унтер-офицеров, то есть из малообразованных или совсем необразованных людей. Само слово «педель» происходит от древненемецкого «pital» «тот, кто приглашает, зовет». В средневековой латыни оно сформировалось как pedellus или bidellus, иногда bidellus generalis, то есть главный глашатай, главный призывающий .
Несмотря на консервативный разворот Делянов настоял на принятии ряда норм, характерных для самого тогда современного европейского опыта. Факультеты получили права разрабатывать и предлагать различные учебные планы, в зависимости от желания студента учиться.
Несмотря на консервативный разворот Делянов настоял на принятии ряда норм, характерных для самого тогда современного европейского опыта. Факультеты получили права разрабатывать и предлагать различные учебные планы, в зависимости от желания студента учиться.

«Студент, читающий стихи (Чаепитие)», художник Александр Маковский,
государственная Третьяковская галерея, Москва
государственная Третьяковская галерея, Москва
Усложненный и облегченный планы образования соответствовали первой и второй степеням диплома, и, соответственно, выпускнику присваивался различный чин. Табель о рангах проявился и в образовании. Студенту, выбравшему трудный план образования, после выпускных экзаменов, которые он, естественно, должен был выдержать, присваивался 10-й чин - коллежского секретаря, соответствующий штабс-капитану Императорской армии. Если студент выбирал легкий путь, но все же сдавал экзамены, ему присваивался 12-й штатский чин губернского секретаря, соответствующий званию армейского поручика.
Эта мера впечатлила студентов. У них появился стимул учиться и выбирать: закончить учебу и сделать карьеру или проболтаться, а потом отправиться в глухую провинцию. Молодые люди с планами и амбициями задумались. Качество образование резко улучшилось.
Изменения коснулись и преподавателей. Вместо назначения известных или кем-то протежируемых преподавателей, профессоров и доцентов была введена система конкурсов на должности профессора и приват-доцента. В конкурсе на должность профессора могли участвовать и профессора других университетов, и приват-доценты, которые тоже имели право претендовать на профессорскую должность. Отбирали серьезно – лучших преподавателей, с самыми хорошими рекомендациями, которые не манкировали лекции. В отличие от профанации отбора преподавателей в Советском Союзе и в современной России, по конкурсу выбирались действительно сильные учителя.
Эта мера впечатлила студентов. У них появился стимул учиться и выбирать: закончить учебу и сделать карьеру или проболтаться, а потом отправиться в глухую провинцию. Молодые люди с планами и амбициями задумались. Качество образование резко улучшилось.
Изменения коснулись и преподавателей. Вместо назначения известных или кем-то протежируемых преподавателей, профессоров и доцентов была введена система конкурсов на должности профессора и приват-доцента. В конкурсе на должность профессора могли участвовать и профессора других университетов, и приват-доценты, которые тоже имели право претендовать на профессорскую должность. Отбирали серьезно – лучших преподавателей, с самыми хорошими рекомендациями, которые не манкировали лекции. В отличие от профанации отбора преподавателей в Советском Союзе и в современной России, по конкурсу выбирались действительно сильные учителя.

Историк и архивист Евгений Трифильев, приват-доцент Харьковского университета, фотография начала XX в.
Еще одно положение уравнивало преподавателей и студентов в ответственности. Студенты могли выбирать преподавателя, лекции и практические занятия которого они предпочитают посещать. Те, кто хотели получить хороший диплом, выбирали сильных преподавателей, а плохие оказывались без студентов и довольно быстро покидали университет.
Наконец, вводилась распространенная на Западе практика зачетов по полугодиям, побуждавшая студентов к ответственной самостоятельной работе. Принятые ныне зачетно-экзаменационные сессии раз в полгода были введены университетским уставом 1884 года. Промежуточные зачеты стали для учащихся серьезным испытанием. Если за полгода студент явно ничего не усвоил, то никто его на второе полугодие не оставлял.
Наконец, вводилась распространенная на Западе практика зачетов по полугодиям, побуждавшая студентов к ответственной самостоятельной работе. Принятые ныне зачетно-экзаменационные сессии раз в полгода были введены университетским уставом 1884 года. Промежуточные зачеты стали для учащихся серьезным испытанием. Если за полгода студент явно ничего не усвоил, то никто его на второе полугодие не оставлял.
Михаил Никифорович Катков восторженно приветствовал новый университетский устав в передовой статье «Московских ведомостей». Он писал: «Новый университетский устав важен не для одного учебного дела, он важен еще потому, что полагает собою начало новому движению в нашем законодательстве; как Устав 1863 года был началом системы упразднения государственной власти, так Устав 1884 года предначинает собою возобновление правительства, возвращение властей к их обязанностям. Или только в учебной сфере, а не повсюду правительство должно возвратиться к своим обязанностям?» [Н.Катков. Сборник передовых статей «Московских ведомостей». 1884. М. 1898. – С.511-512]
Эту цитату часто приводят как пример ретроградного восторга. Но Катков, несмотря на консервативные взгляды, был просвещенным человеком. Он понимал, что цель устава — покончить с университетской анархией.
Эту цитату часто приводят как пример ретроградного восторга. Но Катков, несмотря на консервативные взгляды, был просвещенным человеком. Он понимал, что цель устава — покончить с университетской анархией.
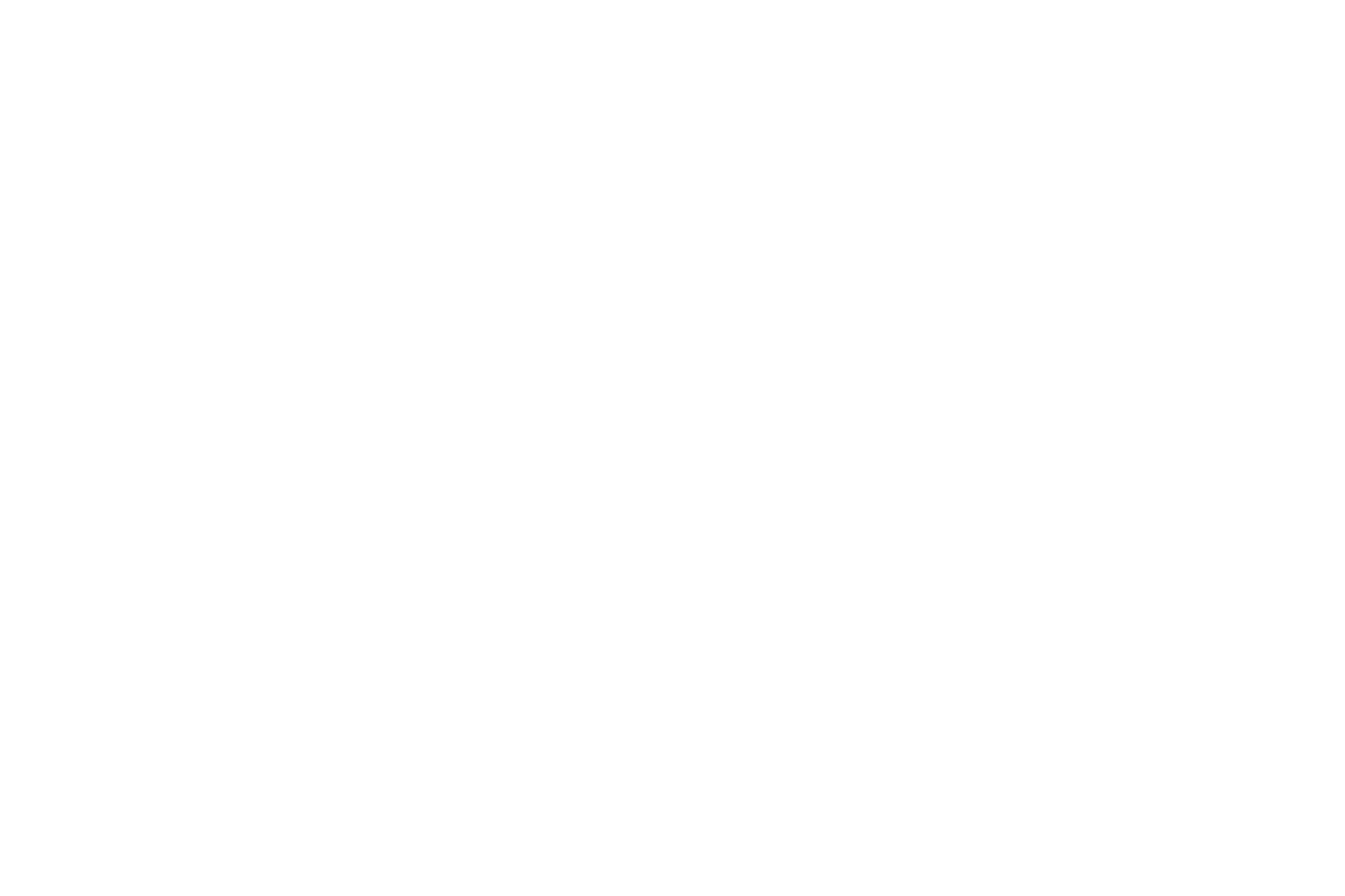
Журналист и публицист Михаил Катков, гравюра 1870-х гг
Далее Катков писал: «Зло, созданное уставом 1863 года положения университетов, обнаружило свою природу и дало себя вполне знать лишь при дальнейшем движении законодательства, которое продолжало начатое этим уставом дело. В свою очередь, и новый университетский устав не может приносить свои плоды, если все вокруг будет насмешкой над ним и отрицанием его. Естественно ли ожидать, что университеты благодаря новому уставу превратятся в цветущий остров посреди взбаламученного моря? Итак, если правительство возвращается к своему долгу в учебном деле, то не должно ли это означать, что оно возвращается к своему долгу во всем? (Катков подталкивает к системным контрреформам, далеко выходящим за сферу университетского образования — А.З.). Или университетский устав останется мертвою буквой, или действительно им обозначается начало нового и лучшего правительственного порядка, а с тем вместе нового и лучшего периода в жизни нашего отечества.
Законодательство начало свое врачующее действие с учебных заведений и поступило мудро: здесь начало. Но оно очутилось бы в противоречии с самим собою, если бы осталось при начале, ничего не начинающем. Итак, господа, встаньте: правительство идет, правительство возвращается!.. Не верите?» [Н.Катков. Сборник передовых статей «Московских ведомостей». 1884. М. 1898. – С.511-512]
Законодательство начало свое врачующее действие с учебных заведений и поступило мудро: здесь начало. Но оно очутилось бы в противоречии с самим собою, если бы осталось при начале, ничего не начинающем. Итак, господа, встаньте: правительство идет, правительство возвращается!.. Не верите?» [Н.Катков. Сборник передовых статей «Московских ведомостей». 1884. М. 1898. – С.511-512]

«В. О. Ключевский на лекции в Училище живописи, ваяния и зодчества»,
Художник Леонид Пастернак, 1909 г.
Художник Леонид Пастернак, 1909 г.
Катков мечтает о водворении государственного порядка. Как и Победоносцев, он не верит в способность общества к самоорганизации. Каткова можно понять, если ощутить дух того времени. Великие реформы стали действительно Великими. Они взбаламутили до дна русское море, освободили огромное количество людей — 4/5 русского общества, которые до этого были бесправными государственными или частновладельческими крестьянами. Талантливая молодежь из народа пошла в подготовительные классы, затем - в гимназии. Отучившись в гимназии за 10-12 лет, в 1863–1875 годы, они пошли в университеты и к 1880 году их окончили. Но, как оказалось, образование они получили не очень хорошее. Многие увлеклись революционным движением, хороших специалистов вышло куда меньше, чем ожидалось. Ситуацию надо было менять.
6. Борьба исподволь
Одни, и среди них большинство Госсовета, думали, что оздоровление наступит само собой изнутри университетов. Другие считали, что ее могут изменить извне только гении бюрократической администрации. К этому направлению принадлежат Катков, Толстой и Победоносцев. Сложнее с Ованесом Деляновым, — человеком просвещенным и хорошо знающим проблемы образования. Бороться с бюрократией не входило в его привычку, но сглаживать острые углы и смягчать слишком резкие действия он умел. Делянов совсем не был «армянским нулем». Он был умным и хитрым администратором. И своей хитростью он преследовал не личные корыстные, а общенациональные цели. Делянов понимал, что если бороться с Толстым и Победоносцевым в лоб, тогда его просто выгонят, как прежде поступили с бароном Николаи. Он выбрал борьбу исподволь.
Василий Алексеевич Маклаков, сам бывший студент Московского университета вспоминал: «Только старшие студенты ощущали потерю некоторых прежних студенческих вольностей и этим могли быть недовольны. Для вновь поступающих университет и при новом уставе в сравнении с гимназией был местом такой полной свободы, что мы чувствовали себя на свежем воздухе. Нас не обижало, как старших, ни ношение формы, ни присутствие педелей и инспекции. Устав 1884 г. больнее ударил по профессорам, чем по студентам. Его основная идея относительно нас, то есть попытка объявить студентов „отдельными посетителями университета” и запретить им „всякие действия носящие характер корпоративный”, никогда полностью проведена быть не могла»[В.А.Маклаков, Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современника, — М; НЛО, 2023, С.83-84].
Одни, и среди них большинство Госсовета, думали, что оздоровление наступит само собой изнутри университетов. Другие считали, что ее могут изменить извне только гении бюрократической администрации. К этому направлению принадлежат Катков, Толстой и Победоносцев. Сложнее с Ованесом Деляновым, — человеком просвещенным и хорошо знающим проблемы образования. Бороться с бюрократией не входило в его привычку, но сглаживать острые углы и смягчать слишком резкие действия он умел. Делянов совсем не был «армянским нулем». Он был умным и хитрым администратором. И своей хитростью он преследовал не личные корыстные, а общенациональные цели. Делянов понимал, что если бороться с Толстым и Победоносцевым в лоб, тогда его просто выгонят, как прежде поступили с бароном Николаи. Он выбрал борьбу исподволь.
Василий Алексеевич Маклаков, сам бывший студент Московского университета вспоминал: «Только старшие студенты ощущали потерю некоторых прежних студенческих вольностей и этим могли быть недовольны. Для вновь поступающих университет и при новом уставе в сравнении с гимназией был местом такой полной свободы, что мы чувствовали себя на свежем воздухе. Нас не обижало, как старших, ни ношение формы, ни присутствие педелей и инспекции. Устав 1884 г. больнее ударил по профессорам, чем по студентам. Его основная идея относительно нас, то есть попытка объявить студентов „отдельными посетителями университета” и запретить им „всякие действия носящие характер корпоративный”, никогда полностью проведена быть не могла»[В.А.Маклаков, Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современника, — М; НЛО, 2023, С.83-84].
Корпорации профессоров тоже активно противились управлению извне, и постепенно Министерство отказалось от этой практики в определении программ обучения. Действительно, что могли даже образованные чиновники понимать в университетском преподавании физики, химии, математики, биологии, медицины? А эти дисциплины тогда быстро развивались. Чиновники окончили университеты за двадцать лет до того, и уже безнадежно отстали в знаниях. Профессора и доценты следили за новыми открытиями, ездили в заграничные командировки, обменивались опытом с коллегами со всего мира. О.Д.Делянов понимал это и не настаивал на государственном контроле за преподаванием. Министерство фактически отказалось от зафиксированного в уставе принципа, что только оно определяет учебную программу университетов.

Профессора Императорского Томского университета. Конец XIX - начало XX в.
Фотография с сайта Томского университета
Фотография с сайта Томского университета
Вот как оценивает университетскую реформу современный профессор Санкт-Петербургского университета, доктор исторических наук Евгений Анатольевич Ростовцев: «На факультетскую структуру устав 1884 года повлиял незначительно. На первых порах после его введения Министерство Народного Просвещения попыталось воспользоваться положениями нового устава для создания своеобразной „директивной системы” управления преподаванием в университетах. В этих условиях университетской профессуре было жизненно необходимо сохранить характер самопополняемой коллегии, а Профессорскому совету – оставаться основным органом принятия решений по важнейшим вопросам университетской жизни. Следует отметить, что Совет университета (Санкт-Петербургского — А.З.) в целом успешно решил обе эти задачи. В результате к концу 1880-х (то есть примерно через пять лет после принятия устава — А.З.) реальная автономия университета стала шире» [Е.А.Ростовцев. Университетская реформа 1884 г. в Санкт-Петербургском университете // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences. № 2, 2013 – С.144].

Доктор исторических наук Евгений Ростовцев
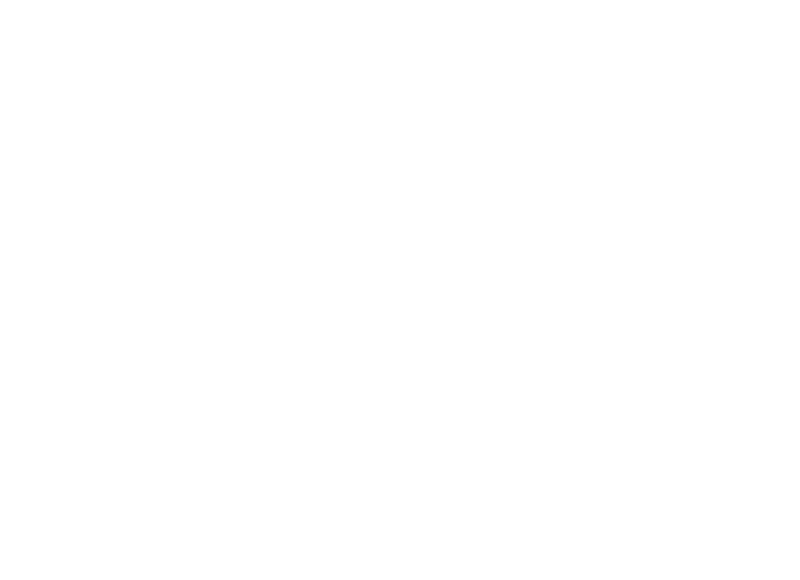
Студенческая сходка в Политехническом институте, 1990-е гг. МАММ/МДФ
От себя добавлю — реальная автономия стала даже шире, чем после принятия устава 1863 г. Профессора и доценты поняли, что за качеством их работы внимательно следят министр, попечитель округа и назначенные в университет инспекторы. Надзиратели не слишком вникали в суть преподаваемого предмета, но, если профессор пропускал лекции, выпивал или рассказывал на лекциях студентам вместо учебного материала, как он провел лето на Ривьере, то об этом сообщалось. Такое поведение профессоров не нравилось и коллегам. Внешнее вмешательство могло подорвать доверие к профессорской корпорации. Чтобы избежать этого вмешательства сама администрация университета старалась вразумлять проблемных преподавателей, а если вразумить не получалось, то их аккуратно, без скандала, увольняли и заменяли более серьезными. Так новый устав подвиг профессорско-преподавательскую корпорацию на самоочищение.
7. Студенты и политика
Обращаясь к студентам после введения нового устава, Ованес Делянов повторил уваровскую формулу «самодержавие, православие, народность». Далее он сказал: «Следуйте этому, и мы все будем счастливы». Это характерные для Делянова слова: и я буду счастлив, что все тихо, и вы будете счастливы, потому что будете хорошо учиться, получите хорошее образование, а власть императорская и все «победоносцевы» увидят, что вы не против самодержавия, не против православия, не против народности. При этом студенты не могли знать, что такое народность – этого никто точно не знал, никто не проверял, как часто они ходят в церковь, главным для власти было, чтобы они не выступали против этих столпов государственной идеологии и не становились революционерами.
Маклаков добавляет: «И таково было уже тогда новое настроение, что можно было при студентах сказать это безнаказанно»[В.А.Маклаков, Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современника, — М; НЛО, 2023, С.46].
Обращаясь к студентам после введения нового устава, Ованес Делянов повторил уваровскую формулу «самодержавие, православие, народность». Далее он сказал: «Следуйте этому, и мы все будем счастливы». Это характерные для Делянова слова: и я буду счастлив, что все тихо, и вы будете счастливы, потому что будете хорошо учиться, получите хорошее образование, а власть императорская и все «победоносцевы» увидят, что вы не против самодержавия, не против православия, не против народности. При этом студенты не могли знать, что такое народность – этого никто точно не знал, никто не проверял, как часто они ходят в церковь, главным для власти было, чтобы они не выступали против этих столпов государственной идеологии и не становились революционерами.
Маклаков добавляет: «И таково было уже тогда новое настроение, что можно было при студентах сказать это безнаказанно»[В.А.Маклаков, Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современника, — М; НЛО, 2023, С.46].
Действительно, Делянова не освистали. Студенты поняли, что им дают возможность учиться, но лишают возможности бездельничать и бунтовать. Они решили учиться. Это самое интересное следствие принятия нового устава. Студенты старших курсов еще живут по-старому, а новые решают «грызть гранит науки». Это поколение студентов 1885 –1900 годов, (потом начался новый подъем революционных настроений в университетах — А.З.), дало хороший слой ученых и чиновников императорской России, последних двух десятилетий ее существования.
В знак доверия к студентам 15 мая 1886 года император Александр III лично посетил Московский университет в его праздник. Катков восторженно писал об этом в «Московских ведомостях»: «Всё в России томилось ожиданием правительства. Оно возвратилось. И вот на месте оказалось и учащееся юношество наше, в котором все надежды нашего будущего, — оказалось на своей родной почве, при своем народе, верное его преданиям… С глубоким и радостным умилением присутствовали мы вчера при свободном, искреннем, горячем воодушевлении молодых людей университета, встречавших и провожавших Самодержца России. Их восторженные клики знаменательно сливались с громом кликов народа, окружавшего здание университета. Они были тем, чем быть должны, детьми своего народа…» [М.Н.Катков. Сборник передовых статей «Московских ведомостей». М. 1898. – Статья от 16 мая 1886, С.252-253]
В знак доверия к студентам 15 мая 1886 года император Александр III лично посетил Московский университет в его праздник. Катков восторженно писал об этом в «Московских ведомостях»: «Всё в России томилось ожиданием правительства. Оно возвратилось. И вот на месте оказалось и учащееся юношество наше, в котором все надежды нашего будущего, — оказалось на своей родной почве, при своем народе, верное его преданиям… С глубоким и радостным умилением присутствовали мы вчера при свободном, искреннем, горячем воодушевлении молодых людей университета, встречавших и провожавших Самодержца России. Их восторженные клики знаменательно сливались с громом кликов народа, окружавшего здание университета. Они были тем, чем быть должны, детьми своего народа…» [М.Н.Катков. Сборник передовых статей «Московских ведомостей». М. 1898. – Статья от 16 мая 1886, С.252-253]

Ночь накануне экзамена, художник Леонид Пастернак, 1895 г.
Катков умер 1 августа 1887 года и не успел увидеть всех последствий принятия нового устава. Студенческие выступления пошли на убыль, внешние политические требования исчезли, Императора больше не называли «царем вешателем». Для студентов это стало табу, они начали понимать, кто такие народовольцы. Студенческая молодежь увлеклась процессом учения, науками, университетской жизнью и отвлеклась от политики.
Последние студенческие беспорядки вспыхнули в ноябре 1887 года. Их причиной стали сугубо университетские проблемы: строгость и грубость инспекторов, антилиберальный дух нового устава, но не политика Империи. Студенты сами изгоняли из своей среды политику.
Последние студенческие беспорядки вспыхнули в ноябре 1887 года. Их причиной стали сугубо университетские проблемы: строгость и грубость инспекторов, антилиберальный дух нового устава, но не политика Империи. Студенты сами изгоняли из своей среды политику.

Студенческая демонстрация у Казанского собора, Санкт-Петербург, 1901 г.
Государственный центральный музей современной истории России
Государственный центральный музей современной истории России
Вот как описал те настроения Маклаков: «На сходке 26 ноября на Страстном бульваре студенты заполняли бульвар, сидели на скамьях и гуляли, ожидая событий. Вдруг прошел слух, что на бульваре есть „посторонние” люди, которые „хотели вмешать в дело политику”. Надо было видеть впечатление, которое это известие произвело на собравшихся. Мы бросились по указанному направлению. На скамье рядом со студентами сидел штатский в серой барашковой шапке (штатский, потому что студенты носили форму — А.З.). „Это вы хотите вмешать в наше дело политику?” Его поразила в устах студенчества такая постановка вопроса. Он стал объяснять, что надо использовать случай, чтобы высказать разные общие пожелания. Дальше слушать мы не хотели. „Если вы собираетесь это сделать, мы тотчас уходим; оставайтесь одни”. Студенческая толпа поддерживала нас сочувственными возгласами… Долго говорить не пришлось. Показались казаки и жандармы, и началось избиение. Человек в серой барашковой шапке не был совсем “посторонним”; он был студентом юристом четвертого курса. Только он был старшего поколения. И мы уже не понимали друг друга. Слово “политика” нас оттолкнуло». [В.А.Маклаков, Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современника, — М; НЛО, 2023, С.86-87]
8. «Циркуляр о кухаркиных детях»
Помимо университетского устава существовала проблема среднего образования. Из гимназий в университеты приходили молодые люди совершенно разагитированные и плохо образованные. Победоносцев предлагал «остудить» российское общество, ограничив передвижение из «неблагородных» слоев населения в студенты. Он считал, что именно появление среди студентов людей из низших сословий порождает хаос и анархию. При этом о своем собственном происхождении Победоносцев видимо забыл, — он был внуком священника, а не дворянина или купца первой гильдии.
Под влиянием Победоносцева в 1884 году Делянов в своем докладе на Высочайшее Имя предлагал закрыть подготовительные классы, чтобы остановить поступление в гимназии детей «неблагородных» сословий. Дело в том, что бесплатные подготовительные классы давали неплохое начальное образование для детей из бедных и необразованных семей. Они помогали ребенку подготовиться к поступлению в гимназию.
Помимо университетского устава существовала проблема среднего образования. Из гимназий в университеты приходили молодые люди совершенно разагитированные и плохо образованные. Победоносцев предлагал «остудить» российское общество, ограничив передвижение из «неблагородных» слоев населения в студенты. Он считал, что именно появление среди студентов людей из низших сословий порождает хаос и анархию. При этом о своем собственном происхождении Победоносцев видимо забыл, — он был внуком священника, а не дворянина или купца первой гильдии.
Под влиянием Победоносцева в 1884 году Делянов в своем докладе на Высочайшее Имя предлагал закрыть подготовительные классы, чтобы остановить поступление в гимназии детей «неблагородных» сословий. Дело в том, что бесплатные подготовительные классы давали неплохое начальное образование для детей из бедных и необразованных семей. Они помогали ребенку подготовиться к поступлению в гимназию.
Одновременно Министерство просвещения увеличило плату за обучение в гимназиях до 50 рублей, что тоже не все могли себе позволить. Преимущество получали дети из высших сословий, получившие хорошее домашнее начальное образование.
Этот Циркуляр интересен как пример тогдашней бюрократической мысли. Назывался он не очень симпатично — «О сокращении числа учеников в гимназиях и прогимназиях и изменение состава оных». В народе его назвали «Циркуляром о кухаркиных детях» — это название каждый из нас слышал в советской и российской школе на уроках истории. Циркуляр был утвержден Государем после обсуждения рядом министров 18 /30 июня 1887 года.
Этот Циркуляр интересен как пример тогдашней бюрократической мысли. Назывался он не очень симпатично — «О сокращении числа учеников в гимназиях и прогимназиях и изменение состава оных». В народе его назвали «Циркуляром о кухаркиных детях» — это название каждый из нас слышал в советской и российской школе на уроках истории. Циркуляр был утвержден Государем после обсуждения рядом министров 18 /30 июня 1887 года.

Гимназия города Корчева
Делянов написал Циркуляр от себя лично: «Вследствие предположения, состоявшегося в совещании при моем участии, из Министров Внутренних Дел, Государственных Имуществ, Управляющего Министерством Финансов и Обер-Прокурора Святейшего Синода, я имел счастие испрашивать соизволение Вашего Императорского Величества на внесение в Комитет Министров представления о допущении впредь в гимназии и в прогимназии детей лишь некоторых сословий не ниже купцов 2-й гильдии». То есть Делянов по настойчивому требованию Министра Внутренних Дел Д.А.Толстого и Обер-прокурора Синода К.П.Победоносцева предлагает вообще «отрубить» детей низших сословий от гимназического и соответственно высшего образования полностью. Делянов хитрый человек: он отлично понимает, что, в отличие от грубых и прямолинейных Толстого и Победоносцева, Император на это не пойдет, так как лучше понимает политическую ситуацию в России.
Делянов продолжает: «Ваше Императорское Величество, всесторонне обсудив это предположение, изволили на Всеподданнейшем докладе моем 23 мая, выразить мысль, что, признавая эту меру несвоевременною и неудобною, Вы полагали бы за лучшее достигнуть цели отвращения наплыва в гимназии и прогимназии детей лиц, не соответствующих по домашней их обстановке среднему образованию, другими какими-либо способами, и изволили Всемилостивейше повелеть мне войти в новые по этому вопросу соображения.
Делянов продолжает: «Ваше Императорское Величество, всесторонне обсудив это предположение, изволили на Всеподданнейшем докладе моем 23 мая, выразить мысль, что, признавая эту меру несвоевременною и неудобною, Вы полагали бы за лучшее достигнуть цели отвращения наплыва в гимназии и прогимназии детей лиц, не соответствующих по домашней их обстановке среднему образованию, другими какими-либо способами, и изволили Всемилостивейше повелеть мне войти в новые по этому вопросу соображения.
Проникаясь мыслью Вашего Величества, я счел нужным посоветоваться с означенными выше лицами, за исключением находящегося ныне в отсутствии действительного тайного советника графа Толстого, и мы, ввиду замечания Вашего Величества, предположили, что независимо от возвышения платы за учение, было бы, по крайней мере, нужно разъяснить начальствам гимназий и прогимназий, чтобы они принимали в эти учебные заведения только таких детей, которые находятся на попечении лиц, представляющих достаточное ручательство в правильном над ними домашнем надзоре и в предоставлении им необходимого для учебных занятий удобства (то есть это уже не указ, а разъяснение, которое можно обойти и не чинить препятствий талантливым детям — А.З.) Таким образом, при неуклонном соблюдении этого правила гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию. (звучит ужасно, но главное, что это рекомендация, а не закон — А.З.) С тем вместе, не находя полезным облегчать на казенные средства приготовление детей в гимназии и прогимназии, совещание высказало, что было бы необходимо закрыть приготовительные при них классы, прекратив ныне же прием в оные. На приведение сей последней меры в исполнение уже последовало, по всеподданнейшему докладу моему 11-го апреля, предварительное высочайшее Вашего Императорского Величества соизволение» [Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Том десятый. Царствование Императора Александра III. 1885−1888 годы. СПб., 1894].
Подготовительные классы действительно закрываются, — государство больше на них денег не выделяет. Но масса благотворительных фондов, земское и городское самоуправление взяли на себя расходы по подготовке детей «кухарок и кучеров» к гимназии. Так что остались широкие лазейки.
В этой же записке рекомендуется отменить статью университетского устава о плате за прослушивание лекций для вольнослушателей в пределах 50 рублей. Этот сбор Делянов предлагает разрешить увеличивать. 50 рублей — большие деньги. Увеличивать плату или нет — остается на усмотрение университета. Университеты пошли навстречу общественному запросу и в основном увеличивать сбор для вольных слушателей не стали.
По наущению Толстого и Победоносцева Император предложил уменьшить число гимназий и прогимназий (кстати, гимназия формально могла теперь выгнать любого, кто не хотел учиться. Это заставляло молодых людей старательней учиться, а их родителей и земских благотворителей — требовать больше от гимназистов — А.З.).
В этой же записке рекомендуется отменить статью университетского устава о плате за прослушивание лекций для вольнослушателей в пределах 50 рублей. Этот сбор Делянов предлагает разрешить увеличивать. 50 рублей — большие деньги. Увеличивать плату или нет — остается на усмотрение университета. Университеты пошли навстречу общественному запросу и в основном увеличивать сбор для вольных слушателей не стали.
По наущению Толстого и Победоносцева Император предложил уменьшить число гимназий и прогимназий (кстати, гимназия формально могла теперь выгнать любого, кто не хотел учиться. Это заставляло молодых людей старательней учиться, а их родителей и земских благотворителей — требовать больше от гимназистов — А.З.).
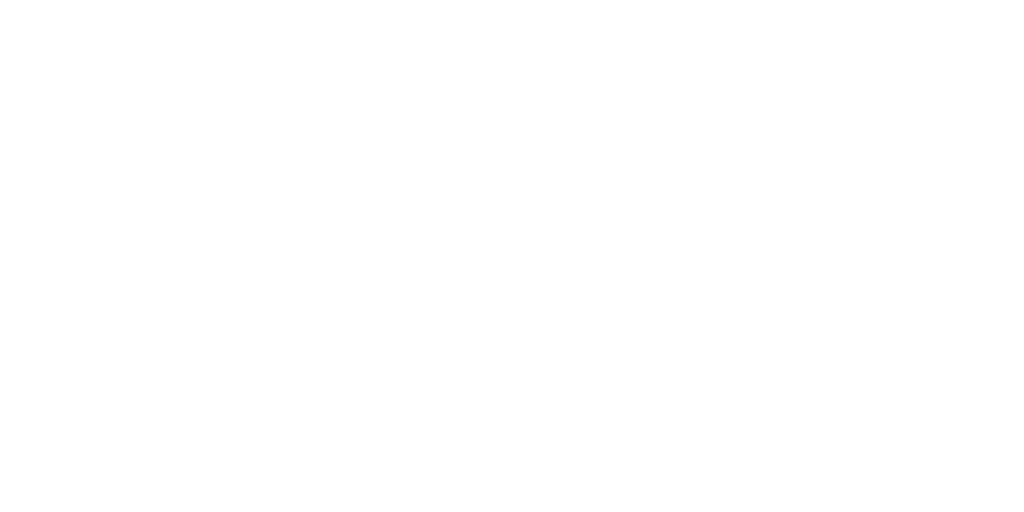
Урок в мужской гимназии. Фотография конца XIX в.
Делянов опять идет на хитрость: «Что же касается до сокращения числа гимназий и прогимназий, с преобразованием некоторых из них в реальные и промышленные училища, то имею счастие всеподданнейше доложить, что, в виду выраженного на докладе моем, 29 марта, Вашего Императорского Величества повеления, мною собраны уже сравнительные статистические данные о числе учеников, количестве параллельных классов и средствах содержания гимназий и прогимназий, а также сделано соображение о возможности закрытия или преобразования оных, смотря по местным условиям и средствам, на них отпускаемым из казны или от земств и городских обществ; но дальнейшие по сему предположения ныне приостановлены (то есть приостановлено закрытие — А.З.) впредь до разрешения вопроса о преобразовании реальных и открытия промышленных училищ, так как без сего невозможно ни преобразовывать гимназии и прогимназии, ни закрывать оные, потому что ученики сих заведений, по закрытии гимназии или прогимназии в какой-либо местности, были бы лишены возможности продолжать свое образование, за неимением соответственного учебного заведения, что поставило бы местные общества в крайне затруднительное положение. Впрочем, можно надеяться, что с приведением вышеизложенных мер в исполнение значительно сократится число учеников в гимназиях и прогимназиях (поскольку из низших сословий не будут принимать — А.З.) и улучшится состав их, что особенно важно потому, что дурное направление учащихся зависит не от количества гимназий и прогимназий, а от качества учеников и переполнения каждой из них в отдельности»[Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Том десятый. Царствование Императора Александра III. 1885−1888 годы. СПб., 1894].
Так ловко Делянов дал понять Царю, что гимназии и прогимназии министерство закрывать не будет. Учащихся там будет меньше, зато остальные будут лучше учиться, так как классы уменьшатся.
В Циркуляре не содержалось какой-либо инструкции по отчислениям уже учащихся в гимназиях представителей низших слоев общества. Этого отчисления не происходило. Корней Иванович Чуковский в своей автобиографической повести «Серебряный герб» написал, что из Одесской гимназии он был отчислен на основании этого Циркуляра. Но это неправда. Юного Чуковского отчислили за плохое поведение и плохое усердие к занятиям, а не из-за принадлежности к низшим сословиям, тем более, что он к низшим сословиям и не принадлежал.
В Циркуляре не содержалось какой-либо инструкции по отчислениям уже учащихся в гимназиях представителей низших слоев общества. Этого отчисления не происходило. Корней Иванович Чуковский в своей автобиографической повести «Серебряный герб» написал, что из Одесской гимназии он был отчислен на основании этого Циркуляра. Но это неправда. Юного Чуковского отчислили за плохое поведение и плохое усердие к занятиям, а не из-за принадлежности к низшим сословиям, тем более, что он к низшим сословиям и не принадлежал.

Учащиеся у здания реального училища в Челябинске, начало XX в. Государственный исторический музей Южного Урала
Анализ Циркуляра показывает, как Делянов парировал требования Победоносцева и даже Императора. В своем исследовании Циркуляра Денис Александрович Кузьминов подсчитал, что общее число учащихся в классических гимназиях уменьшилось на 16% — с 70921 до 59418 человек в 1886 году. Вернуться к прежнему количеству учащихся удалось только спустя десять лет — в 1897 году. Но все-таки это уменьшение не было критическим. [ Д.А. Кузьминов. Циркуляр «О сокращении числа учеников в гимназиях и прогимназиях и изменении состава оных» и его влияние на сословный состав средних учебных заведений по материалам отчетов гимназий // Повышение эффективности реализации фундаментальных научных исследований как условие долгосрочного устойчивого развития России: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 28 июля 2020 г. — Белгород, 2020. — С. 28—34.]

Череповецкое городское училище: ремесленное отделение, Череповецкое музейное объединение
А вот в реальных училищах (училища, которые готовили к поступлению в технические учебные заведения — А.З.) число учащихся за период с 1885 по 1894 годы выросло на 14,8%. Одновременно учебный план реальных училищ по своему формату стал сближаться с учебной программой гимназий, и этому очень содействовал О.Д.Делянов. Долгое время выпускники двух типов учебных заведений не были равны в плане доступа к дальнейшему высшему образованию. Выпускники реальных училищ имели право поступления в высшие технические училища (фактически сейчас это технические университеты — А.З.), и лишь к началу ХХ века им была предоставлена возможность поступления на физико-математические и медицинские факультеты университетов. Это, конечно, большой недостаток — молодые люди, закончившие реальные училища, отсекались от управленческой элиты Империи, которая рекрутировалась в первую очередь из выпускников юридического, филологического и исторического факультетов университетов.
Общее число реальных и промышленных училищ, которых было в 1871 году всего девять увеличилось почти в девять раз к 1894 году — до 85. Это достижение способствовало росту числа хороших инженеров.
По мнению современного историка Сергея Владимировича Волкова «в долгосрочном плане циркуляр заявленной цели не достиг». Но Делянов и не пытался достичь этой цели. По сравнению с 1880 г. в 1898 г. году доля высших сословий, — дворян, чиновников, духовенства, в университетах сократилась с 70 до 50%. Если в 1880 году число выходцев из низших сословий в университетах составляло 25%, то к 1898 году, их уже было 48%. В мужских гимназиях представительство низших сословий — мещан, крестьян и мелкого купечества увеличилось с 38 до 43%, а в женских составило 48,7% (даже несколько превысив долю высших сословий в женских гимназиях — 48,4% — А.З.). В прогимназиях низшие сословия составляли уже 73%, что обещало в ближайшем будущем учащимся из этих сословий стать самой многочисленной долей учеников в гимназиях.
Общее число реальных и промышленных училищ, которых было в 1871 году всего девять увеличилось почти в девять раз к 1894 году — до 85. Это достижение способствовало росту числа хороших инженеров.
По мнению современного историка Сергея Владимировича Волкова «в долгосрочном плане циркуляр заявленной цели не достиг». Но Делянов и не пытался достичь этой цели. По сравнению с 1880 г. в 1898 г. году доля высших сословий, — дворян, чиновников, духовенства, в университетах сократилась с 70 до 50%. Если в 1880 году число выходцев из низших сословий в университетах составляло 25%, то к 1898 году, их уже было 48%. В мужских гимназиях представительство низших сословий — мещан, крестьян и мелкого купечества увеличилось с 38 до 43%, а в женских составило 48,7% (даже несколько превысив долю высших сословий в женских гимназиях — 48,4% — А.З.). В прогимназиях низшие сословия составляли уже 73%, что обещало в ближайшем будущем учащимся из этих сословий стать самой многочисленной долей учеников в гимназиях.

Гимназисты, начало XX века, МАММ, МДФ
После 1905 года «Циркуляр о кухаркиных детях» никто не исполнял вообще. В канун Первой Мировой войны в гимназиях низшие сословия составляли 57,4%, причем, в провинции — до двух третей — например, в Костромской губернии — 65,4%, в Ярославской — 62,6%. То есть гимназии становились уже не просто разночинными, но преимущественно местом обучения детей из низших сословий.
За годы Первой Мировой войны процесс ещё ускорился. Например, в гимназии Углича к 1917 году из 337 учащихся, детей крестьян было 132, мещан и небогатых горожан — 126, духовенства — 55, чиновников — 31, купцов — 29, из учительского сословия — 14, дворян — 8 и прочих — 21.
В последней четверти ХIХ века представителей низших сословий в гимназиях было между 40 и 50%, а в начале ХХ века — около 60%. То есть образованная Россия реально становилась разночинной.
За годы Первой Мировой войны процесс ещё ускорился. Например, в гимназии Углича к 1917 году из 337 учащихся, детей крестьян было 132, мещан и небогатых горожан — 126, духовенства — 55, чиновников — 31, купцов — 29, из учительского сословия — 14, дворян — 8 и прочих — 21.
В последней четверти ХIХ века представителей низших сословий в гимназиях было между 40 и 50%, а в начале ХХ века — около 60%. То есть образованная Россия реально становилась разночинной.
9. Начальная школа
В начальной школе Победоносцеву тоже не удалось достичь больших успехов. Он хотел все начальное образование сконцентрировать под контролем Синода и сделать его религиозным. Победоносцев предлагал создать двух и четырех-классные школы в синодальной системе. Но из этого ничего не вышло, так как дворянство и земство выступили против этих идей и отказались бы финансировать синодальные школы, а у государства на них не было денег. Переводить на государственный кошт начальное образование, чтобы передать его Синоду, никто не стал. Начальное образование предпочли оставить на плечах земства.
Победоносцев создал церковно-приходские школы, но они не пользовались популярностью. Большинство крестьян старались отдать своих детей в земские школы, где было более качественное образование.
В начальной школе Победоносцеву тоже не удалось достичь больших успехов. Он хотел все начальное образование сконцентрировать под контролем Синода и сделать его религиозным. Победоносцев предлагал создать двух и четырех-классные школы в синодальной системе. Но из этого ничего не вышло, так как дворянство и земство выступили против этих идей и отказались бы финансировать синодальные школы, а у государства на них не было денег. Переводить на государственный кошт начальное образование, чтобы передать его Синоду, никто не стал. Начальное образование предпочли оставить на плечах земства.
Победоносцев создал церковно-приходские школы, но они не пользовались популярностью. Большинство крестьян старались отдать своих детей в земские школы, где было более качественное образование.
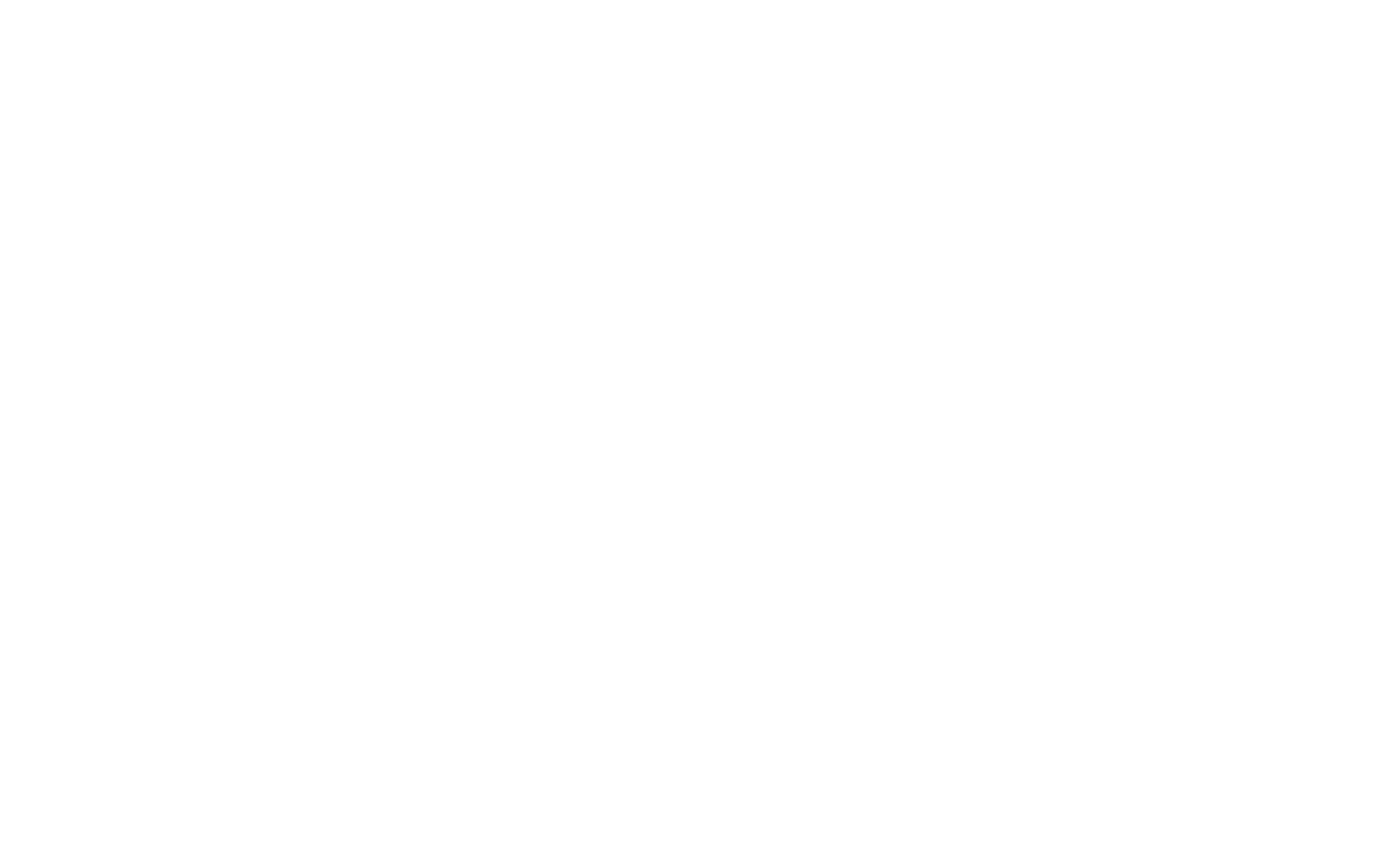
Воскресное чтение в сельской школе, художник Николай Богданов-Бельский, 1895 г.
Были еще «школы грамоты» — самый низший тип школ, которые создавались в эпоху Великих реформ. Их устраивали сами крестьяне. Преподавателем таких школ не требовался учительский сертификат. Грамотного человека находили сами крестьяне. Это мог быть и сын помещика, и дьячок, и священник, и просто грамотный крестьянин.
«Школы грамоты» по закону 13 июня 1884 года полностью переводили в ведомство Святейшего Синода, но это привело к отрицательному результату. К.П.Победоносцев жаловался Царю, но ничего сделать было нельзя. Переход под управление Синода оттолкнул от «школ грамоты» земства и побудил их основывать больше начальных школ, что помогало улучшению начального образования в стране, — вместо «школ грамоты», где преподавали случайные люди, появилось больше земских школ. То есть конкуренция между самоуправлением — земством и Министерством Народного Просвещения привела к значительному улучшению образования.
«Школы грамоты» по закону 13 июня 1884 года полностью переводили в ведомство Святейшего Синода, но это привело к отрицательному результату. К.П.Победоносцев жаловался Царю, но ничего сделать было нельзя. Переход под управление Синода оттолкнул от «школ грамоты» земства и побудил их основывать больше начальных школ, что помогало улучшению начального образования в стране, — вместо «школ грамоты», где преподавали случайные люди, появилось больше земских школ. То есть конкуренция между самоуправлением — земством и Министерством Народного Просвещения привела к значительному улучшению образования.
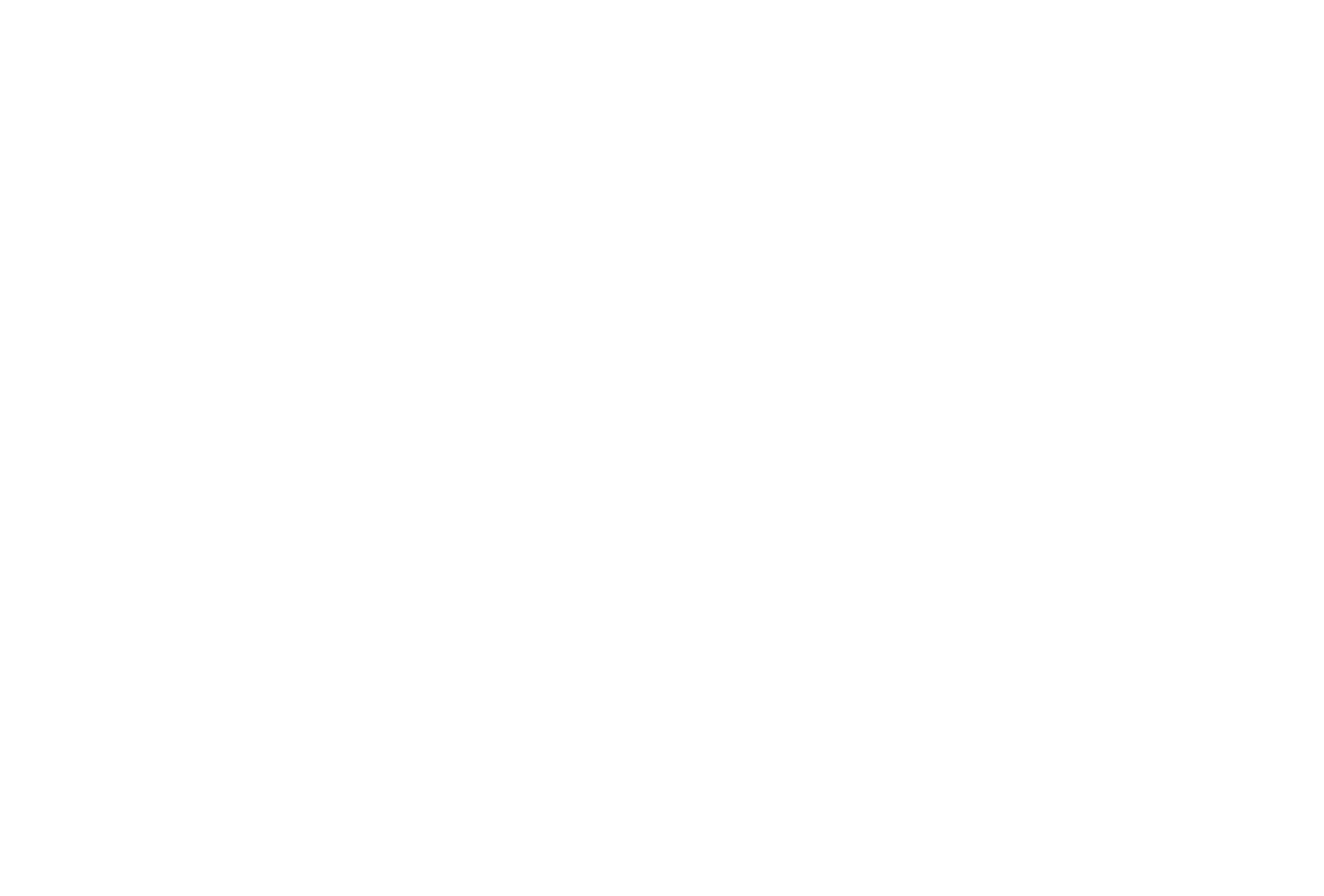
В школе, фотография конца XIX века
Попытка Победоносцева и Толстого заморозить образование низших сословий и отсечь их от пути к государственной службе, к успеху не привела.
Наверняка, если бы Первая Мировая война не закончилась в России большевицким переворотом, процесс социального выравнивания образования завершился бы уже в 1930-е годы. То есть Россия догнала бы государства Западной Европы, создав доступную для всех сословий систему высококлассного начального, среднего и высшего образования. Социально отставшее в ХVIII - первой половине ХIХ века, российское общество быстро догоняло Запад в начале ХХ века, и только большевицкий переворот полностью остановил этот процесс, заменив культуру низкокачественной образованщиной.
Наверняка, если бы Первая Мировая война не закончилась в России большевицким переворотом, процесс социального выравнивания образования завершился бы уже в 1930-е годы. То есть Россия догнала бы государства Западной Европы, создав доступную для всех сословий систему высококлассного начального, среднего и высшего образования. Социально отставшее в ХVIII - первой половине ХIХ века, российское общество быстро догоняло Запад в начале ХХ века, и только большевицкий переворот полностью остановил этот процесс, заменив культуру низкокачественной образованщиной.