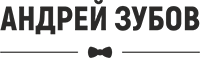КУРС История России. XIX век
Лекция 76
Контрреформа земского самоуправления
Контрреформа земского самоуправления
видеозапись лекции
содержание
- Слухи о смене курса
- Дворяне жаждут реванша
- Новая идеология. Манифест Каткова
- Дворянский банк
- Алексей Пазухин — идеолог консервативного дворянства
- Споры вокруг проекта земской контрреформы
- Искра революции
- Оскудение дворянства
рекомендованная литература
А.А. Корнилов. Курс истории России XIX века, — М.: Эксмо, 2019; Астрель, 2004.
М.Н.Катков. «Столетняя годовщина дворянской грамоты» // Московские ведомости. 1885. № 108, 20 апреля https://www.prlib.ru/item/366303
А.Д. Пазухин. Современное состояние России и сословный вопрос, — М.: Университетская типография, 1886.
А. Б. Зубов, Парламентская демократия и политическая традиция Востока. М: АН СССР, Институт востоковедения, Наука, 1990.
Письма Победоносцева к Александру III. — М; Центрархив, 1925, Т.2.
А.Ф.Кони, Избранное, — М: Советская Россия, 1989.
Е.И.Козлинина, За полвека. 1862 – 1912 гг.: Воспоминания, очерки и характеристики. М.: Типография торгового дома Н. Бердоносов, Ф. Пригорин и Ко, 1913.
В.Н.Гинев, Земские начальники: объективная необходимость или реакционная контрреформа? // Петербургский исторический журнал, СПб, 2015.
П.А.Зайончковский, Российское самодержавие в конце ХIХ столетия. М: «Мысль», 1970.
М.А.Боровая. А.Д. Пазухин. Общественно-политические взгляды и государственная деятельность. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Самара: Самарский гос. Университет, 2004.
В.О.Ключевский «Краткое пособие по Русской истории».М: 1906.
Н.А.Бузанова. Земские начальники Тамбовской губернии: 1889-1917. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Тамбов: Тамбовский государственный университет, 2005.
Л.Г.Захарова, Земская контрреформа. М: Издательство Московского университета, 1989.
А.П.Корелин, Дворянство в пореформенной России, 1861-1904, — М: Наука, 1979
М.А.Саевская, Консервативные концепции земского самоуправления (1864–1905 гг.). М: Литрес, 2021.
М.А.Саевская. Концепция земского самодержавия в трудах русских
консервативных мыслителей второй половины XIX начала XX века //
Социально-гуманитарные знания, 2020.
А. Штиглиц. Современные дворянские вопросы. СПб., 1897.
Л. Н. Юровский.«Оскудевающеедворянство» //«РусскиеВедомости», 7 декабря 1913 года, № 282.
Samuel J. Eldersveld and Bashiruddin Ahmed. Citizens and Politics: Mass Political Behavior in India. Chicago: University of Chicago Press, 1978.
Edward С. Thaden. Russia since 1801. The Making of a New Society. Wiley- Interscience N.Y.-L., etc, 1971.
Д.А.Николаев, Положения о земских учреждениях в 1864 и 1890 г.: общее иособенное в развитии земского законодательства в России в второй половинеXIX в. // Вестник нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского, 2012.
The Zemstvo in Russia: An Experiment in Local Self-Government / Terence Emmons; Wayne S. Vucinich, eds. Cambridge University Press, 1982.
Thomas S. Fallows, The Russian Fronde and the Zemstvo Movement: Economic Agitation and Gentry Politics in the Mid-1890s // The Russian Review, vol.44, 1985.
М.Н.Катков. «Столетняя годовщина дворянской грамоты» // Московские ведомости. 1885. № 108, 20 апреля https://www.prlib.ru/item/366303
А.Д. Пазухин. Современное состояние России и сословный вопрос, — М.: Университетская типография, 1886.
А. Б. Зубов, Парламентская демократия и политическая традиция Востока. М: АН СССР, Институт востоковедения, Наука, 1990.
Письма Победоносцева к Александру III. — М; Центрархив, 1925, Т.2.
А.Ф.Кони, Избранное, — М: Советская Россия, 1989.
Е.И.Козлинина, За полвека. 1862 – 1912 гг.: Воспоминания, очерки и характеристики. М.: Типография торгового дома Н. Бердоносов, Ф. Пригорин и Ко, 1913.
В.Н.Гинев, Земские начальники: объективная необходимость или реакционная контрреформа? // Петербургский исторический журнал, СПб, 2015.
П.А.Зайончковский, Российское самодержавие в конце ХIХ столетия. М: «Мысль», 1970.
М.А.Боровая. А.Д. Пазухин. Общественно-политические взгляды и государственная деятельность. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Самара: Самарский гос. Университет, 2004.
В.О.Ключевский «Краткое пособие по Русской истории».М: 1906.
Н.А.Бузанова. Земские начальники Тамбовской губернии: 1889-1917. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Тамбов: Тамбовский государственный университет, 2005.
Л.Г.Захарова, Земская контрреформа. М: Издательство Московского университета, 1989.
А.П.Корелин, Дворянство в пореформенной России, 1861-1904, — М: Наука, 1979
М.А.Саевская, Консервативные концепции земского самоуправления (1864–1905 гг.). М: Литрес, 2021.
М.А.Саевская. Концепция земского самодержавия в трудах русских
консервативных мыслителей второй половины XIX начала XX века //
Социально-гуманитарные знания, 2020.
А. Штиглиц. Современные дворянские вопросы. СПб., 1897.
Л. Н. Юровский.«Оскудевающеедворянство» //«РусскиеВедомости», 7 декабря 1913 года, № 282.
Samuel J. Eldersveld and Bashiruddin Ahmed. Citizens and Politics: Mass Political Behavior in India. Chicago: University of Chicago Press, 1978.
Edward С. Thaden. Russia since 1801. The Making of a New Society. Wiley- Interscience N.Y.-L., etc, 1971.
Д.А.Николаев, Положения о земских учреждениях в 1864 и 1890 г.: общее иособенное в развитии земского законодательства в России в второй половинеXIX в. // Вестник нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского, 2012.
The Zemstvo in Russia: An Experiment in Local Self-Government / Terence Emmons; Wayne S. Vucinich, eds. Cambridge University Press, 1982.
Thomas S. Fallows, The Russian Fronde and the Zemstvo Movement: Economic Agitation and Gentry Politics in the Mid-1890s // The Russian Review, vol.44, 1985.
текст лекции
1. Слухи о смене курса
Главной контрреформой царствования Александра III — стала контрреформа местного самоуправления и судопроизводства.
Если высшим достижением эпохи Александра II стало освобождение крестьян, в результате чего 9/10 населения России обрели право полноценного гражданства, то главной целью контрреформ Александра III стала попытка это полноценное гражданство у крестьян вновь забрать.
Русский историк начала ХХ века Александр Корнилов писал: «Новое дворянское реакционное направление, которое проводилось правительством при графе Толстом во внутренних делах, всего яснее отразилось на судьбе крестьянского вопроса и на реформе земского самоуправления» [А.А. Корнилов. Курс истории России XIX века. М.: Эксмо, 2019; Астрель, 2004 С.761].
Главной контрреформой царствования Александра III — стала контрреформа местного самоуправления и судопроизводства.
Если высшим достижением эпохи Александра II стало освобождение крестьян, в результате чего 9/10 населения России обрели право полноценного гражданства, то главной целью контрреформ Александра III стала попытка это полноценное гражданство у крестьян вновь забрать.
Русский историк начала ХХ века Александр Корнилов писал: «Новое дворянское реакционное направление, которое проводилось правительством при графе Толстом во внутренних делах, всего яснее отразилось на судьбе крестьянского вопроса и на реформе земского самоуправления» [А.А. Корнилов. Курс истории России XIX века. М.: Эксмо, 2019; Астрель, 2004 С.761].
В начале царствования Александра III, особенно после того, как Министерство внутренних дел возглавил реакционер граф Толстой, по России поползли тревожные слухи. Не только в образованном обществе, но и в уездном земстве, и в крестьянской среде говорили, что готовится какая-то реформа, которая вернет Россию чуть ли не во времена крепостного права или, по крайней мере, во времена полной абсолютистской несвободы. С другой стороны, крестьяне говорили о «черном» переделе, что царская власть рухнет, а на ее место придут новые люди, какие-то социалисты («сицилисты», как их называли — А.З.), что они всю землю отберут у помещиков и купцов и раздадут крестьянам.
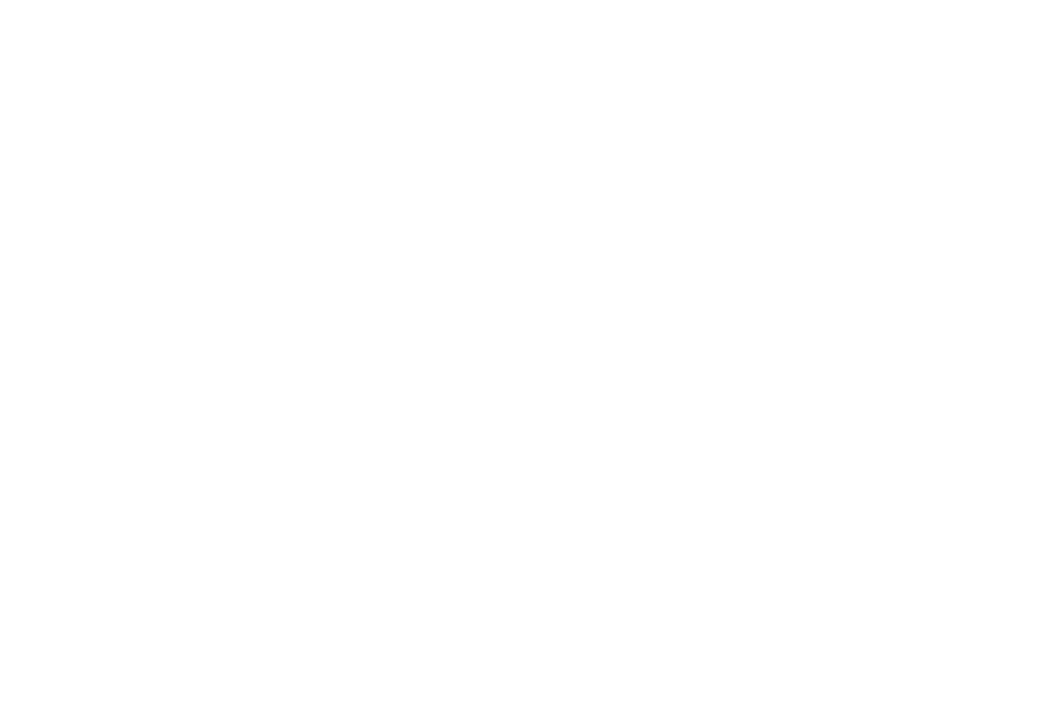
Волостные старшины Рыбинского уезда, 1880-е гг.
Россия не успокоилась. Терроризм пошел на спад, но смута была в умах. Все боялись: одни — движения назад к крепостничеству, другие — близкой революции.
Чтобы успокоить людей, во время коронации 21 мая 1883 года Александр III обратился к волостным старшинам. Напомню, что волость это - мельчайшая административная единица Российской Империи, фактически это несколько деревень. Все управляющие волостью лица, кроме полицейского, избирались народом, —крестьянским миром. То есть на волостном уровне после Великих реформ существовала прямая демократия.
Александр III говорил старшинам: «Очень рад видеть вас; душевно благодарю за ваше сердечное участие в торжествах наших, к которым так горячо отнеслась вся Россия. Когда вы разъедетесь по домам, передайте всем моё сердечное спасибо, следуйте советам и руководству ваших предводителей дворянства и не верьте вздорным и нелепым слухам и толкам о переделах земли, даровых прирезках и тому подобному. Эти слухи распускаются нашими врагами. Всякая собственность, точно также как и ваша, должна быть неприкосновенна. Дай Бог вам счастья и здоровья».
Власти придавали большое значение короткому царскому выступлению. Запечатлеть его попросили знаменитого художника Илью Репина. Полотно украсили государственными и губернскими гербами Российской Империи.
Чтобы успокоить людей, во время коронации 21 мая 1883 года Александр III обратился к волостным старшинам. Напомню, что волость это - мельчайшая административная единица Российской Империи, фактически это несколько деревень. Все управляющие волостью лица, кроме полицейского, избирались народом, —крестьянским миром. То есть на волостном уровне после Великих реформ существовала прямая демократия.
Александр III говорил старшинам: «Очень рад видеть вас; душевно благодарю за ваше сердечное участие в торжествах наших, к которым так горячо отнеслась вся Россия. Когда вы разъедетесь по домам, передайте всем моё сердечное спасибо, следуйте советам и руководству ваших предводителей дворянства и не верьте вздорным и нелепым слухам и толкам о переделах земли, даровых прирезках и тому подобному. Эти слухи распускаются нашими врагами. Всякая собственность, точно также как и ваша, должна быть неприкосновенна. Дай Бог вам счастья и здоровья».
Власти придавали большое значение короткому царскому выступлению. Запечатлеть его попросили знаменитого художника Илью Репина. Полотно украсили государственными и губернскими гербами Российской Империи.
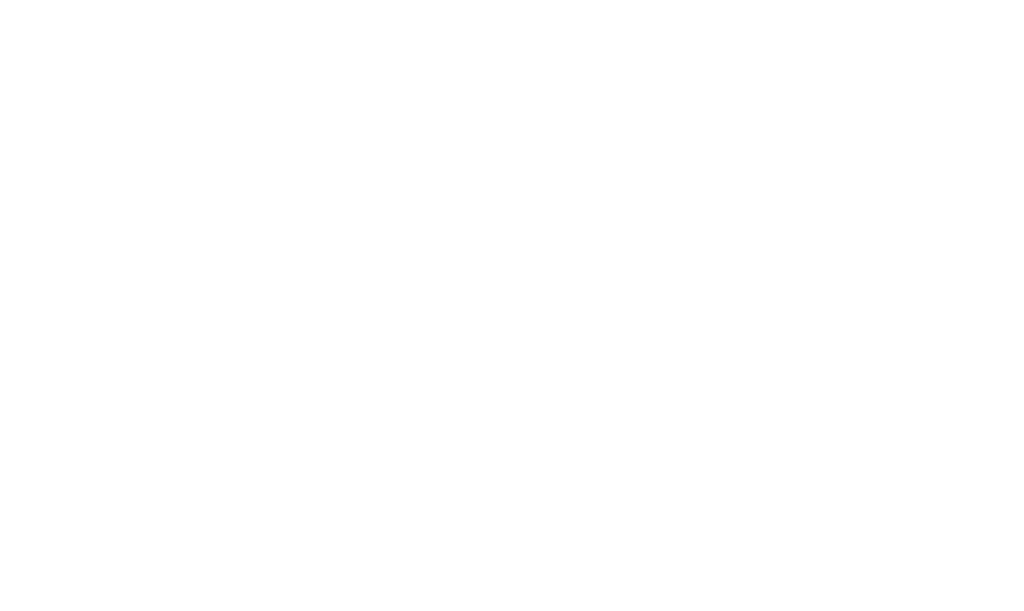
Прием волостных старшин во дворе Петровского дворца в Москве 1886 г.
Художник Илья Репин, Государственная Третьяковская галерея, Москва
Художник Илья Репин, Государственная Третьяковская галерея, Москва
В заявлении Императора важны несколько моментов. Первое: Царь велит слушаться предводителей дворянства как руководителей. Но дворянское самоуправление не имело к крестьянам никакого отношения. Эту структуру создала Екатерина II в 1785 году. После получения свободы от крепостной зависимости крестьян с помещиками ничего не связывало кроме экономических отношений. Но Александр III намеренно подчеркивает: сохраняется старая сословная иерархия: дворяне — начальники, крестьяне — подчиненные.
Второе — слухи о переделе земли. Если даже Император публично заговорил о них, значит этими толками бурлила вся Россия. Царь призывает не верить слухам, потому что они распространяются «врагами». Русскому народу внушают, что у Императора есть некие враги. Жизнь в кольце врагов — еще одна особенность миропредставления, которая насаждалась при Александре III. Речь идет не о врагах крестьянского землевладения или помещиков, а о некоей сущностной силе, как будто с крестьянами воюют демоны.
Второе — слухи о переделе земли. Если даже Император публично заговорил о них, значит этими толками бурлила вся Россия. Царь призывает не верить слухам, потому что они распространяются «врагами». Русскому народу внушают, что у Императора есть некие враги. Жизнь в кольце врагов — еще одна особенность миропредставления, которая насаждалась при Александре III. Речь идет не о врагах крестьянского землевладения или помещиков, а о некоей сущностной силе, как будто с крестьянами воюют демоны.
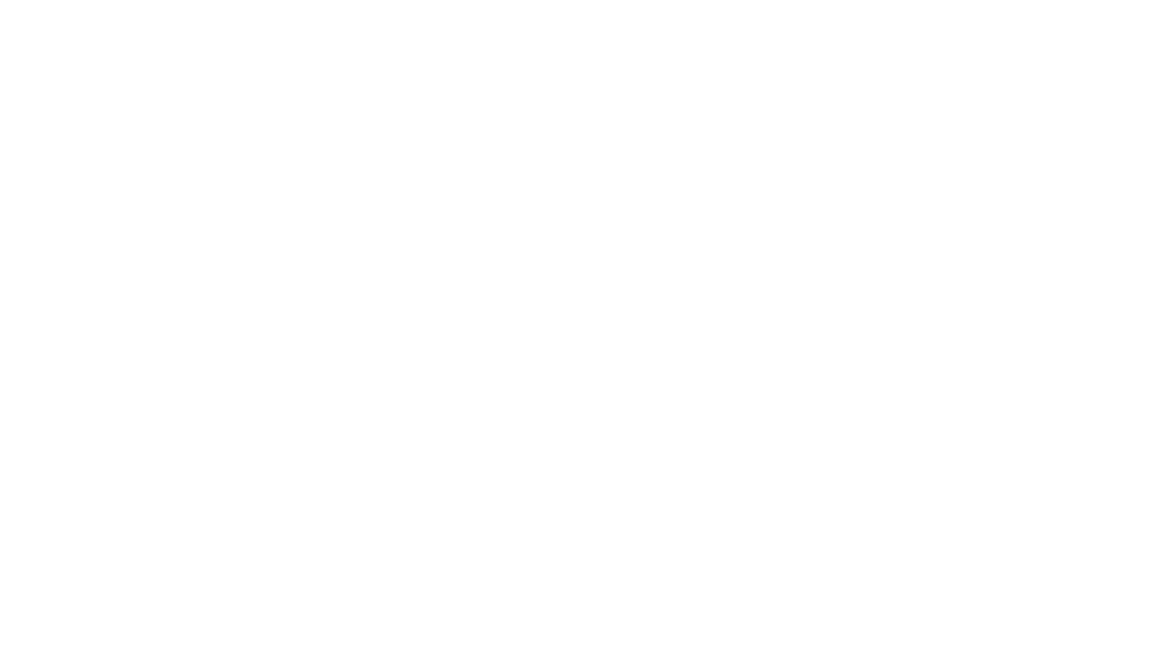
Крестьянская сходка, Художник Фирс Журавлев, 1870-е гг. Вольский краеведческий музей
Наконец, Царь утверждает, что всякая собственность священна и неприкосновенна. Но Александр III и российская власть в тысячный раз говорят неправду. Как же священна и неприкосновенна собственность, если сначала Петр I отнял землю у крестьян, Екатерина II отобрала собственность у церквей и монастырей, а крестьян не только лишили права на землю, но и права на свободу, сделав их рабами дворян? Их согласия никто не спрашивал, а значит, собственность не священна и прикосновенна.
Справедливость распределения земли при освобождении крестьян тоже выглядела сомнительной. Дворяне считали, что крестьянам дали много, а либералы и сторонники реформ, напротив, говорили, что народ обделили. Тут нет ничего священного: распределение земли — попытка ликвидации несправедливости, но об этом не говорится, и это — тоже тенденция.
Справедливость распределения земли при освобождении крестьян тоже выглядела сомнительной. Дворяне считали, что крестьянам дали много, а либералы и сторонники реформ, напротив, говорили, что народ обделили. Тут нет ничего священного: распределение земли — попытка ликвидации несправедливости, но об этом не говорится, и это — тоже тенденция.
2. Дворяне жаждут реванша
Среди дворян появился целый круг людей, разоренных Великими реформами и уязвленных тем, что они потеряли власть над крестьянами и теперь равны с ними в земском самоуправлении, где крестьян, естественно, больше. Обиженные дворяне мечтают о восстановлении своего первенствующего статуса в Империи. Реформаторы наоборот стремились уравнять всех граждан России, чтобы они отличались только уровнем образования и дохода, но никак не происхождением. Среди реформаторов было много дворян, но другая группа пыталась все вернуть вспять.
Когда дворяне увидели приверженность Александра III самодержавию и абсолютизму, они решили попробовать вернуть себе статус первого сословия Империи. Большинство дворян не умели вести хозяйство без крепостных рабов, — дармовой рабочей силы, и постепенно разорялось. Во взглядах Императора они усмотрели шанс улучшить экономическое положение. А тут как раз подоспел столетний юбилей дворянской жалованной грамоты, которую 21 апреля 1785 года Екатерина II даровала дворянскому сословию.
Среди дворян появился целый круг людей, разоренных Великими реформами и уязвленных тем, что они потеряли власть над крестьянами и теперь равны с ними в земском самоуправлении, где крестьян, естественно, больше. Обиженные дворяне мечтают о восстановлении своего первенствующего статуса в Империи. Реформаторы наоборот стремились уравнять всех граждан России, чтобы они отличались только уровнем образования и дохода, но никак не происхождением. Среди реформаторов было много дворян, но другая группа пыталась все вернуть вспять.
Когда дворяне увидели приверженность Александра III самодержавию и абсолютизму, они решили попробовать вернуть себе статус первого сословия Империи. Большинство дворян не умели вести хозяйство без крепостных рабов, — дармовой рабочей силы, и постепенно разорялось. Во взглядах Императора они усмотрели шанс улучшить экономическое положение. А тут как раз подоспел столетний юбилей дворянской жалованной грамоты, которую 21 апреля 1785 года Екатерина II даровала дворянскому сословию.
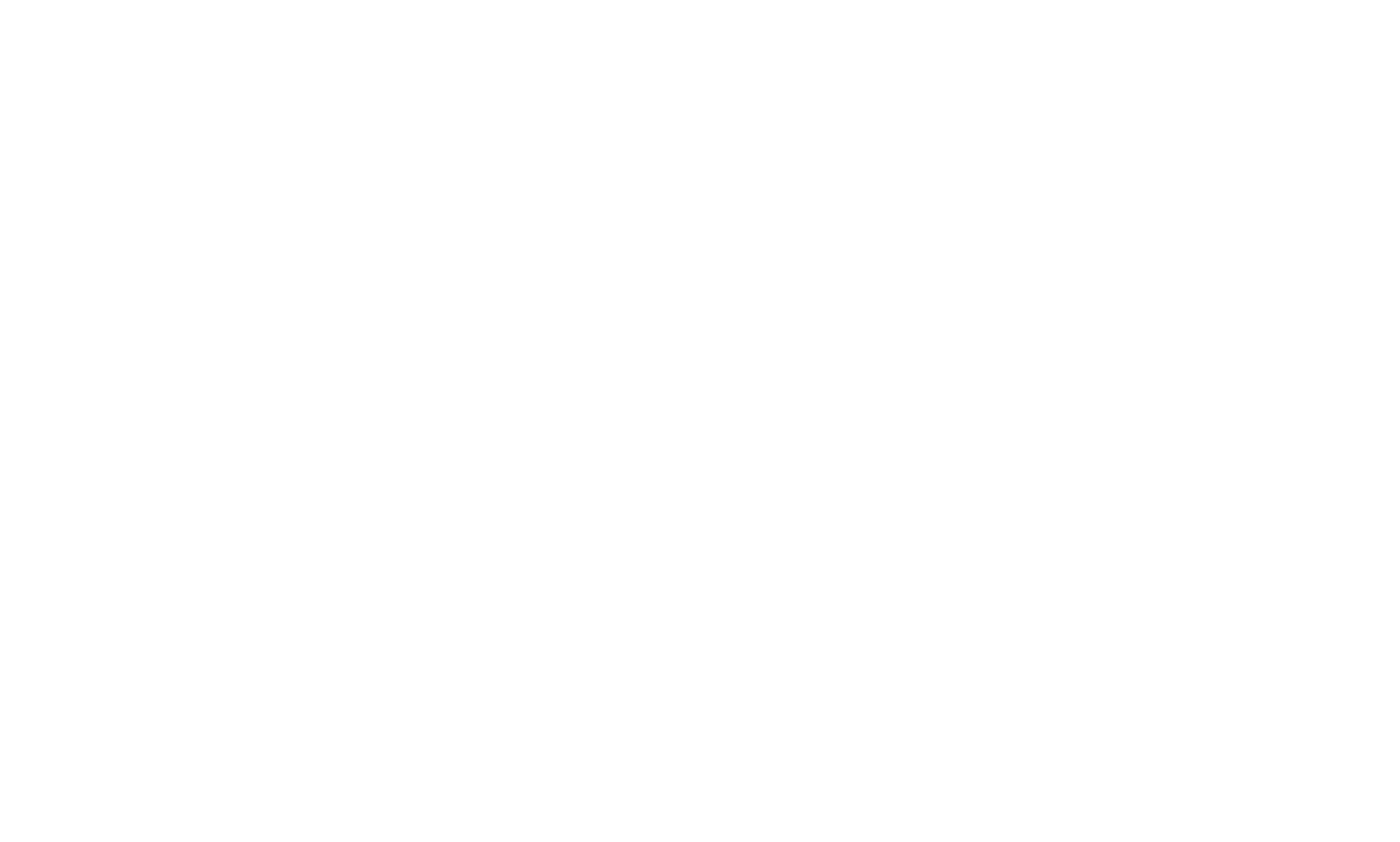
Группа дворян Московской губернии. Предводитель дворянства Богородского уезда граф В. В. Мусин-Пушкин среди дворян. Фото 1897 г. Архив М. В. Золотарёва
Тогда дворянство не было в России такой уж значительной силой. Этот слой обеспечивал власть Императора не над внешними врагами, — для этого существовала армия, а над собственным народом. Дворяне контролировали крестьян и жили за их счет.
Дворян в Российской Империи было немного. К началу XX века этот слой составлял примерно 1,8 млн. человек или 1,5 % населения России. Из них 1,2 млн. имели потомственное дворянство, а остальные 600 тысяч получили личное дворянство, которое распространялось только на жену дворянина и не передавалось по наследству.
Дворянство Российской Империи было многонациональным. Только 53% потомственных дворян по переписи 1897 года назвали родным языком русский. 28,6 % дворян считали себя поляками, 5,9 % — грузинами, 5,3% — татарами, 3,4% — литовцами и 2,4% — немцами.
Несмотря на многочисленные законодательные барьеры дворянство оставалось открытым сословием. В потомственные дворяне попадали как с получением высокого гражданского или военного чина -действительный статский советник и полковник, по указу 9 /21 декабря 1856 г., или благодаря включению в ту или иную орденскую корпорацию Империи: когда человека награждали орденом, то он получал дворянство. Напомню, что орден — не значок на груди или на шее, но включение в рыцарскую корпорацию. Знак ордена, звезда или крест, означал принадлежность к корпорации или Александра Невского, или мученицы Екатерины, или святого Станислава и т.д. В 1875–1896 году потомственное дворянство получили 40 тысяч человек. Это не очень много, но все же сословный лифт существовал.
Дворян в Российской Империи было немного. К началу XX века этот слой составлял примерно 1,8 млн. человек или 1,5 % населения России. Из них 1,2 млн. имели потомственное дворянство, а остальные 600 тысяч получили личное дворянство, которое распространялось только на жену дворянина и не передавалось по наследству.
Дворянство Российской Империи было многонациональным. Только 53% потомственных дворян по переписи 1897 года назвали родным языком русский. 28,6 % дворян считали себя поляками, 5,9 % — грузинами, 5,3% — татарами, 3,4% — литовцами и 2,4% — немцами.
Несмотря на многочисленные законодательные барьеры дворянство оставалось открытым сословием. В потомственные дворяне попадали как с получением высокого гражданского или военного чина -действительный статский советник и полковник, по указу 9 /21 декабря 1856 г., или благодаря включению в ту или иную орденскую корпорацию Империи: когда человека награждали орденом, то он получал дворянство. Напомню, что орден — не значок на груди или на шее, но включение в рыцарскую корпорацию. Знак ордена, звезда или крест, означал принадлежность к корпорации или Александра Невского, или мученицы Екатерины, или святого Станислава и т.д. В 1875–1896 году потомственное дворянство получили 40 тысяч человек. Это не очень много, но все же сословный лифт существовал.
3. Новая идеология. Манифест Каткова
Консерваторы почувствовали, что новая власть готова восстановить права дворянства. Главный издатель «Московских ведомостей» и известный реакционер Михаил Никифорович Катков начинает публичную кампанию. Прямо перед провозглашением «Столетия манифеста по правам жалованной грамоты дворянству» Катков пишет в своей газете лживую и демагогическую статью, характерную для эпохи контрреформ.
Консерваторы почувствовали, что новая власть готова восстановить права дворянства. Главный издатель «Московских ведомостей» и известный реакционер Михаил Никифорович Катков начинает публичную кампанию. Прямо перед провозглашением «Столетия манифеста по правам жалованной грамоты дворянству» Катков пишет в своей газете лживую и демагогическую статью, характерную для эпохи контрреформ.
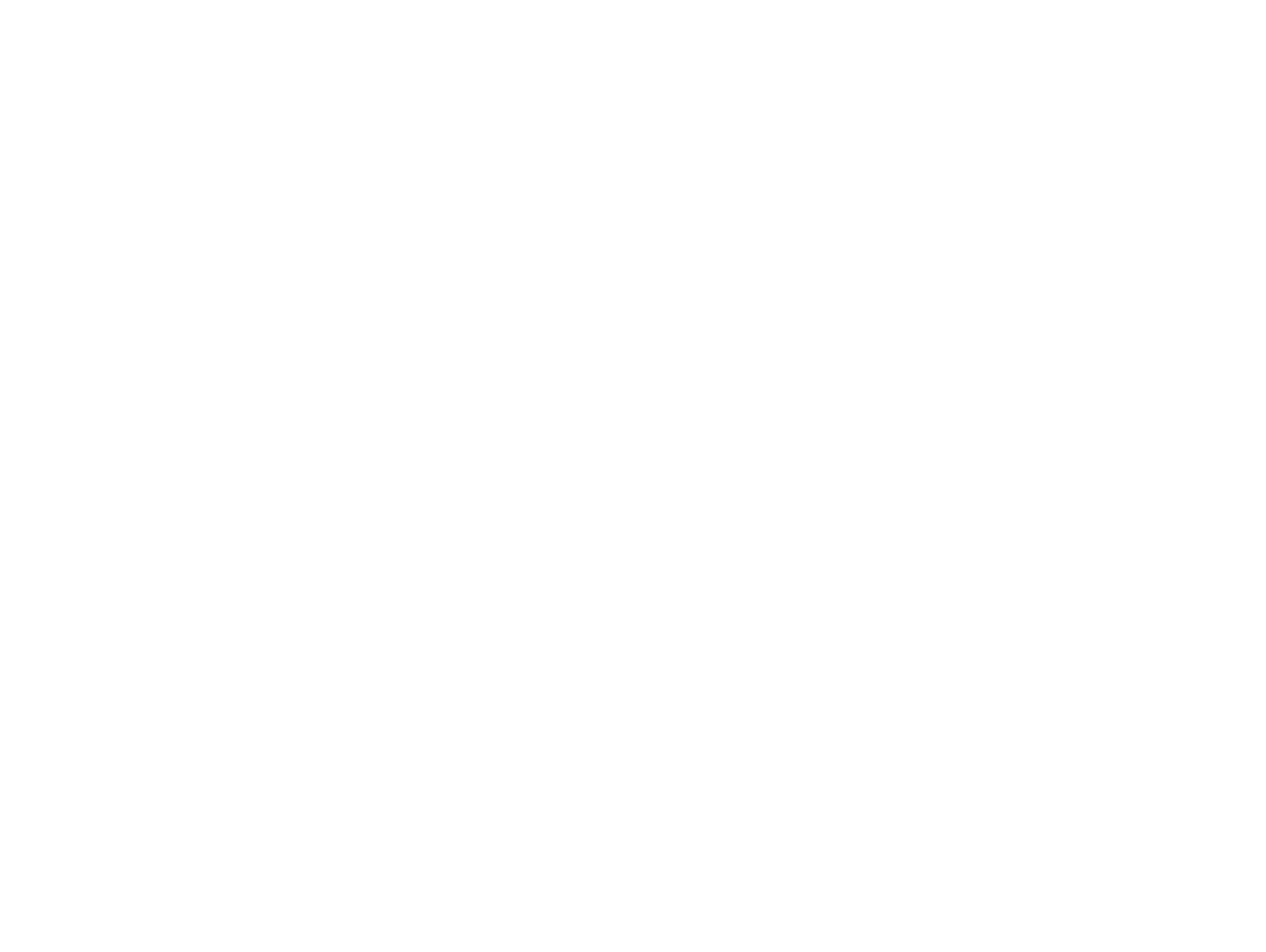
Михаил Катков, портрет из книги «Галлерея русских писателей», 1901 г.
Катков маскирует мысль о возвращении дворянам главенствующей роли в российском обществе красивым словоблудием: «Дворянская полноправность потом разлилась в народе и стала достоянием и других сословий. Что было для дворянства 21 апреля, то для крестьянства — 19 февраля. Находясь в крепостной зависимости у крепостных слуг государства, крестьяне вместе с ними, под их начальством, тянули общее государственное тягло. Но по освобождении дворян крестьянские населения стали их принадлежностью уже на праве частной собственности — аномалия, которую не могло выносить государство, и она пала через три четверти века после жалованной дворянству грамоты» [М.Н.Катков. «Столетняя годовщина дворянской грамоты» // Московские ведомости. 1885. № 108, 20 апреля].
Катков сознательно допускает фактическую ошибку. Аномалия, — когда дворяне стали свободны от службы, а крестьяне превратились в их частную собственность, — наступила на четверть века раньше, — не с момента жалованной грамоты Екатерины, а с момента Указа о вольности дворянству 18 февраля 1761 года, изданного убитым Екатериной её мужем императором Петром III.
Катков сознательно допускает фактическую ошибку. Аномалия, — когда дворяне стали свободны от службы, а крестьяне превратились в их частную собственность, — наступила на четверть века раньше, — не с момента жалованной грамоты Екатерины, а с момента Указа о вольности дворянству 18 февраля 1761 года, изданного убитым Екатериной её мужем императором Петром III.
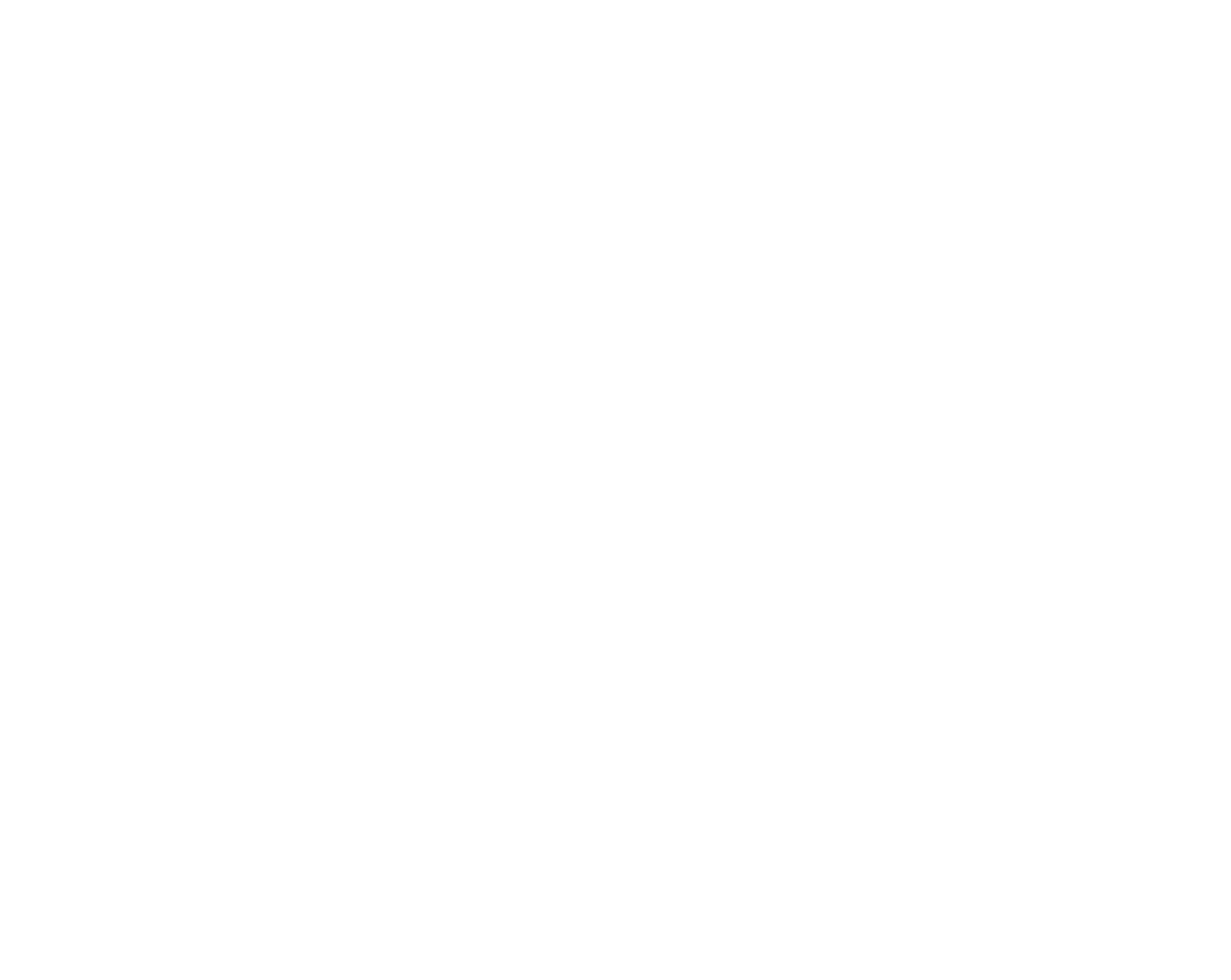
Торг. Сцена из крепостного быта. Из недавнего прошлого. Картина художника Николая Неврева, 1866, Государственная Третьяковская галерея, Москва
Сравнивать помещиков с крестьянами невозможно. Одно дело, быть дворянином — слугой Государя, но образованным и богатым собственником, а совсем другое — нищим рабом, — крестьянином. Разве можно сравнить графа Строганова и мужика из его имения?
Катков продолжает: «Замкнутость дворянства, ныне открытого для всякого образованного человека путем государственных отличий, отняло бы у него будущность и сделало бы его непригодным к новой высокой службе среди новых условий. Не замыкать дворянство требуется, а разве вернее и сообразнее с современными условиями определить самую службу государству» [М.Н.Катков. «Столетняя годовщина дворянской грамоты» Московские ведомости. 1885. № 108, 20 апреля].
Катков продолжает: «Замкнутость дворянства, ныне открытого для всякого образованного человека путем государственных отличий, отняло бы у него будущность и сделало бы его непригодным к новой высокой службе среди новых условий. Не замыкать дворянство требуется, а разве вернее и сообразнее с современными условиями определить самую службу государству» [М.Н.Катков. «Столетняя годовщина дворянской грамоты» Московские ведомости. 1885. № 108, 20 апреля].
Катков фактически предлагает из дворянства сделать новое привилегированное сословие: как только человек поднимается на некоторую административную ступень, он становится дворянином. Но тогда дворяне, которые не занимают никаких постов, должны лишаться дворянства? Нет, об этом Катков не говорит. Дети потомственных дворян остаются дворянами, даже если нигде не служат, а живут всю жизнь в своем имении или прожигают жизнь за границей. Дворянство не чиновничество, которое есть в каждой стране, не служилый класс, — это именно привилегированное сословие, в который можно за заслуги попасть извне.
Российское общество делилось на две части. Большая часть — низшая: крестьяне, купцы, священники, работали или служили день и ночь. А чтобы попасть в высшее сословие, надо было хорошо поработать, а дальше уже бездельничать, главное не совершать тяжких преступлений, и тогда детям и внукам дворян дворянство обеспечено.
«Благодаря своему первенствующему положению, государственному духу свой организации, — пишет далее Катков, —дворянство, одушевленное из рода в род передаваемой честью и пополняемое новыми силами из народа, служит живым посредствующим звеном между государством и обществом и по преимуществу призвано к царской службе в земском деле. Созданное служением государству, будучи живым преданием его истории, в которой записаны все его имена, русское дворянство, учрежденное Жалованной грамотой императрицы Екатерины и освобожденное от крепостного права Александром II, представляет собой всю полноту гражданских прав и более всех заинтересовано в ограждении их от произвола и беззакония» [М.Н.Катков. «Столетняя годовщина дворянской грамоты» Московские ведомости. 1885. № 108, 20 апреля].
Российское общество делилось на две части. Большая часть — низшая: крестьяне, купцы, священники, работали или служили день и ночь. А чтобы попасть в высшее сословие, надо было хорошо поработать, а дальше уже бездельничать, главное не совершать тяжких преступлений, и тогда детям и внукам дворян дворянство обеспечено.
«Благодаря своему первенствующему положению, государственному духу свой организации, — пишет далее Катков, —дворянство, одушевленное из рода в род передаваемой честью и пополняемое новыми силами из народа, служит живым посредствующим звеном между государством и обществом и по преимуществу призвано к царской службе в земском деле. Созданное служением государству, будучи живым преданием его истории, в которой записаны все его имена, русское дворянство, учрежденное Жалованной грамотой императрицы Екатерины и освобожденное от крепостного права Александром II, представляет собой всю полноту гражданских прав и более всех заинтересовано в ограждении их от произвола и беззакония» [М.Н.Катков. «Столетняя годовщина дворянской грамоты» Московские ведомости. 1885. № 108, 20 апреля].
Да, дворянство появилось как служилое сословие, но служило далеко не всегда хорошо. Его представители совершили немало преступлений в отношении крестьян, да и других дворян. Это просто сословие служилых людей, которое вместе с потерей имущества — крепостных крестьян, потеряло смысл своего реального существования в государстве.
Продолжаю цитировать Каткова: «Все дорогое для государства и все дорогое для общества в дворянстве сливается воедино. Только дворянская организация способна, в лице своих предводителей, нести безмездную службу на пользу общую. Не из поместного ли дворянства вышли и те достославной памяти деятели, которые были самоотверженными двигателями крестьянской реформы, сопряженной с немалыми для дворянства материальными ущербами? В дворянской организации по преимуществу следует искать элементы для благоустройства местного, то есть повсеместного управления в Русском царстве… Да пребудет русское дворянство, как и в прошлые времена, живым звеном между Царем и народом, часть которого оно составляет!» [М.Н.Катков. «Столетняя годовщина дворянской грамоты» Московские ведомости. 1885. № 108, 20 апреля].
Продолжаю цитировать Каткова: «Все дорогое для государства и все дорогое для общества в дворянстве сливается воедино. Только дворянская организация способна, в лице своих предводителей, нести безмездную службу на пользу общую. Не из поместного ли дворянства вышли и те достославной памяти деятели, которые были самоотверженными двигателями крестьянской реформы, сопряженной с немалыми для дворянства материальными ущербами? В дворянской организации по преимуществу следует искать элементы для благоустройства местного, то есть повсеместного управления в Русском царстве… Да пребудет русское дворянство, как и в прошлые времена, живым звеном между Царем и народом, часть которого оно составляет!» [М.Н.Катков. «Столетняя годовщина дворянской грамоты» Московские ведомости. 1885. № 108, 20 апреля].
После этих восторженных слов Каткова возникает вопрос, почему выходцы из купеческого сословия, из крестьян, мещан и духовенства не могут «нести безмездную службу на пользу» государству? Если они бедны, значит надо платить им больше, а те, у кого деньги есть (многие купцы богаче дворян — А.З.), несут службу на пользу общества, часто безвозмездную. Никакими особыми качествами дворянство не отличалось.
Катков заключает статью голословным и высокопарным заявлением: «Мы, для пользы Государства, признаем за благо, чтобы российские дворяне и ныне, как и в прежнее время, сохраняли первенствующее место в предводительстве ратном, в делах местного управления и суда, в бескорыстном попечении о нуждах народа, в распространении примером своим правил веры и верности и здравых начал народного образования» [М.Н.Катков. «Столетняя годовщина дворянской грамоты» Московские ведомости. 1885. № 108, 20 апреля].
Катков заключает статью голословным и высокопарным заявлением: «Мы, для пользы Государства, признаем за благо, чтобы российские дворяне и ныне, как и в прежнее время, сохраняли первенствующее место в предводительстве ратном, в делах местного управления и суда, в бескорыстном попечении о нуждах народа, в распространении примером своим правил веры и верности и здравых начал народного образования» [М.Н.Катков. «Столетняя годовщина дворянской грамоты» Московские ведомости. 1885. № 108, 20 апреля].
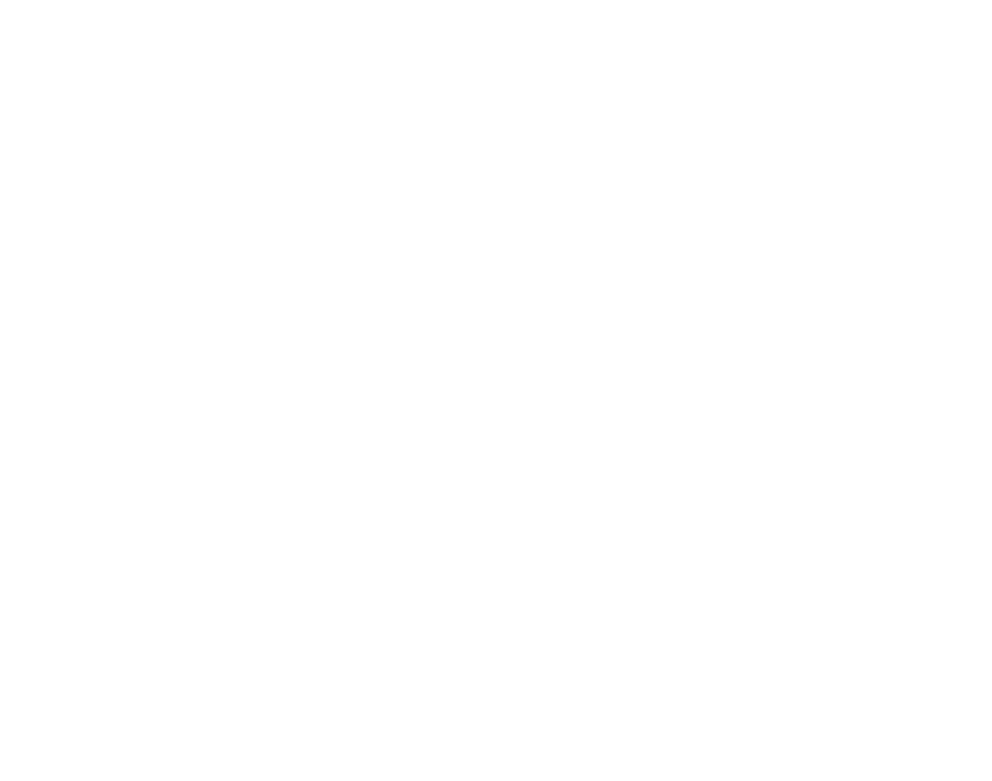
Титульный лист Жалованной грамоты дворянству, 1785
еликие реформы предложили государству опираться не на сословия, а на образованных и зажиточных представителей общества. Понятно, что бедный человек вряд ли будет радеть о других. Он озабочен вопросом собственного выживания. Поэтому опорой трона должны быть люди состоятельные и образованные, которые понимают, что такое закон и самоуправление. Такие люди должны быть ведущей управленческой элитой государства. Созданное Петром I и Екатериной II, дворянство сохраняло после освобождения крестьян остаточные привилегии — европейское образование и зажиточность. Крестьян же не образовывали и имущества, в отличие от помещиков, у них никакого не было. Но и эти бонусы дворянства быстро размывались.
В пореформенной России начался взрывной рост образования. Огромное количество людей уже не дворянского звания получали хорошие знания. При Александре III этому пытались мешать, о чем я рассказывал в предыдущей лекции о контрреформе образования. Теперь государство стремилось законсервировать власть дворян, а значит — ихбогатство. Вот о чем пишет Катков.
Достаточно вспомнить «Мертвые души» или «Ревизора» Николая Васильевича Гоголя, чтобы увидеть состояние русского дворянства эпохи Николая I. Много там людей, которые вызывают у читателя восхищение?
В пореформенной России начался взрывной рост образования. Огромное количество людей уже не дворянского звания получали хорошие знания. При Александре III этому пытались мешать, о чем я рассказывал в предыдущей лекции о контрреформе образования. Теперь государство стремилось законсервировать власть дворян, а значит — ихбогатство. Вот о чем пишет Катков.
Достаточно вспомнить «Мертвые души» или «Ревизора» Николая Васильевича Гоголя, чтобы увидеть состояние русского дворянства эпохи Николая I. Много там людей, которые вызывают у читателя восхищение?
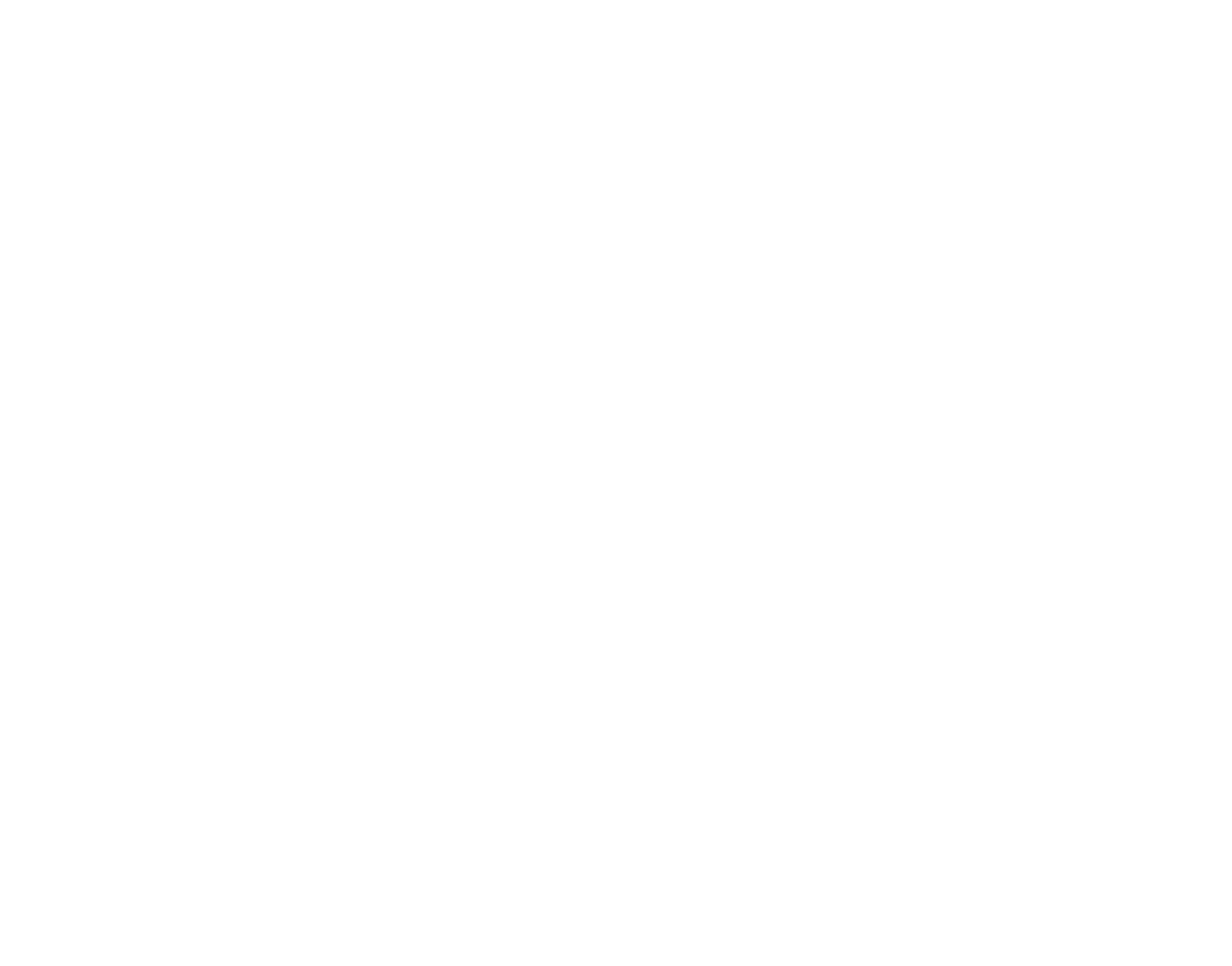
Иллюстрация к комедии Н.Гоголя «Ревизор», Художник Константин Савицкий, 1900-е гг,
Но Каткова постоянно читают Александр III и Победоносцев. Катков — умный человек и умеет хорошо писать. Александр III,как человек наивный и слабовольный, очарован Катковым и верит ему. Он попадает в плен его пустым, но красивым фигурам речи.
21 апреля 1885 года, в день столетия Жалованной Грамоты российскому дворянству, Император подписывает рескрипт, в котором объявляет: «Обращая самую службу в достоинство, <дворяне> приобрели своему потомству нарицание благородное. В недавнее время, когда по призыву Монарха, Незабвенного Нашего Родителя, потребовалось приступить к отмене крепостного права, Дворянство отозвалось на сей призыв с готовностью и, понеся при сем немалые жертвы в достоянии своем, явило пример великодушия, редкий в истории всех стран и народов» [ПСЗРИ, Закон 2882, собр.3, т. 5. СПб. 1887. – С.169].
Александр III знал, что это неправда. Он не мог не знать, что 4/5 помещиков не желали освобождения крестьян. Тому есть и другое доказательство. Вспомним, как исполнялся указ о вольных хлебопашцах, который дал Александр I 20 февраля /4 марта 1803 года. Этот указ разрешал крестьянам выкупаться на волю с землей и становиться ее частными владельцами. Ранее сельскохозяйственные угодья, по тому самому указу о вольности дворянства, принадлежали только дворянам. Александр I пытался освободить крестьян по доброй воле помещиков. Но до конца царствования Александра I, за 1803–1825 год, этот указ применялся лишь в 161 случае к 47153 крестьянам, то есть меньше, чем к 0,5% от общего числа крепостных. Большинство помещиков и не помышляло об отказе от своей «крещеной собственности» даже за деньги. К 1858 году число освобожденных по указу Александра I крестьян составила около 150 тысяч человек, то есть 1,3% от количества крепостных. Так что указ о вольных хлебопашцах полностью провалился всецело и исключительно из-за помещиков. Никакого рвения в освобождении своих рабов дворяне не показали.
21 апреля 1885 года, в день столетия Жалованной Грамоты российскому дворянству, Император подписывает рескрипт, в котором объявляет: «Обращая самую службу в достоинство, <дворяне> приобрели своему потомству нарицание благородное. В недавнее время, когда по призыву Монарха, Незабвенного Нашего Родителя, потребовалось приступить к отмене крепостного права, Дворянство отозвалось на сей призыв с готовностью и, понеся при сем немалые жертвы в достоянии своем, явило пример великодушия, редкий в истории всех стран и народов» [ПСЗРИ, Закон 2882, собр.3, т. 5. СПб. 1887. – С.169].
Александр III знал, что это неправда. Он не мог не знать, что 4/5 помещиков не желали освобождения крестьян. Тому есть и другое доказательство. Вспомним, как исполнялся указ о вольных хлебопашцах, который дал Александр I 20 февраля /4 марта 1803 года. Этот указ разрешал крестьянам выкупаться на волю с землей и становиться ее частными владельцами. Ранее сельскохозяйственные угодья, по тому самому указу о вольности дворянства, принадлежали только дворянам. Александр I пытался освободить крестьян по доброй воле помещиков. Но до конца царствования Александра I, за 1803–1825 год, этот указ применялся лишь в 161 случае к 47153 крестьянам, то есть меньше, чем к 0,5% от общего числа крепостных. Большинство помещиков и не помышляло об отказе от своей «крещеной собственности» даже за деньги. К 1858 году число освобожденных по указу Александра I крестьян составила около 150 тысяч человек, то есть 1,3% от количества крепостных. Так что указ о вольных хлебопашцах полностью провалился всецело и исключительно из-за помещиков. Никакого рвения в освобождении своих рабов дворяне не показали.
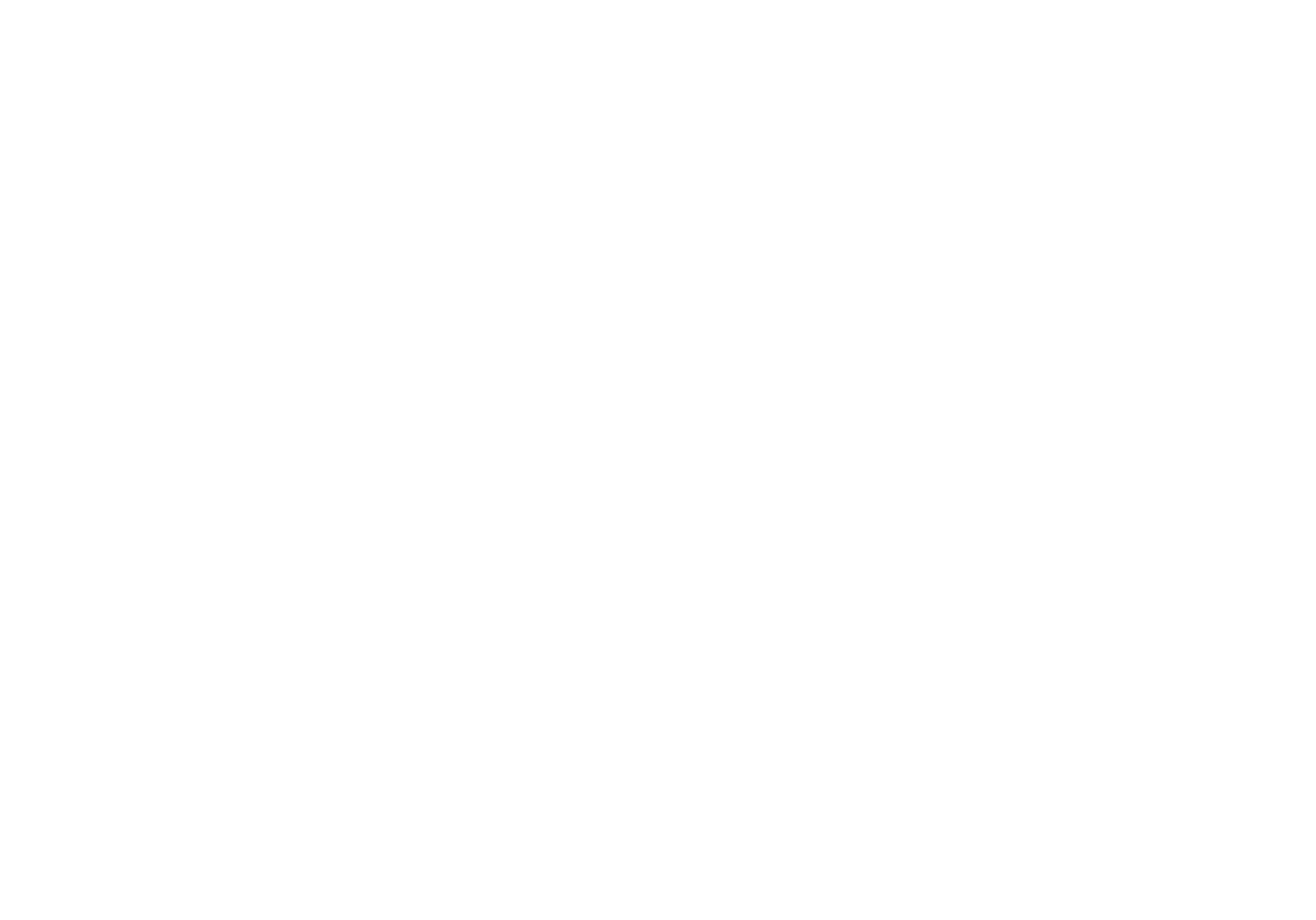
Во время концерта в дворянском собрании, художник Илья Репин, 1888 г.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Конечно, и среди реформаторов были помещики, но очень мало. Подавляющее большинство помещиков не хотели освобождения крестьян, и если ли бы ни воля абсолютного монарха Александра II освобождения крестьян бы не случилось. Тогда, вероятно, вспыхнуло бы страшное восстание — новая «Пугачевщина», и, скорее всего, Российская Империя прекратила бы свое существование в конце ХIХ века. Так что и слова статьи Каткова, и указ Александра III — это неправда и лицемерие. Они оба все понимали. Крестьяне тоже все знали и помнили. Дворянство потеряло всякое уважение в крестьянской среде. Дворяне и помещики утратили, поэтому, всякое моральное право управлять крестьянами.
Александр II решился создать бессословное государство. Это было абсолютно естественным шагом в направлении будущей демократической конституционной России. Но противник такого развития страны, Александр III захотел утвердить сословное государство силой закона и имущественных привилегий.
Александр II решился создать бессословное государство. Это было абсолютно естественным шагом в направлении будущей демократической конституционной России. Но противник такого развития страны, Александр III захотел утвердить сословное государство силой закона и имущественных привилегий.
4. Дворянский банк
Император решил создать материальную подпорку беднеющему дворянству. Чтобы поддержать ссудами дворянское землевладение государство учредило дворянский банк. «Учреждение особого Дворянского банка, — говорится в царском указе, — дабы дворяне тем более привлекались к постоянному пребыванию в своих поместьях, где предстоит им преимущественно приложить свои силы к деятельности, требуемой от них долгом их звания». На самом деле банк был нужен для того, чтобы дворяне не беднели от эмансипации и освобождения крестьян.
Император решил создать материальную подпорку беднеющему дворянству. Чтобы поддержать ссудами дворянское землевладение государство учредило дворянский банк. «Учреждение особого Дворянского банка, — говорится в царском указе, — дабы дворяне тем более привлекались к постоянному пребыванию в своих поместьях, где предстоит им преимущественно приложить свои силы к деятельности, требуемой от них долгом их звания». На самом деле банк был нужен для того, чтобы дворяне не беднели от эмансипации и освобождения крестьян.
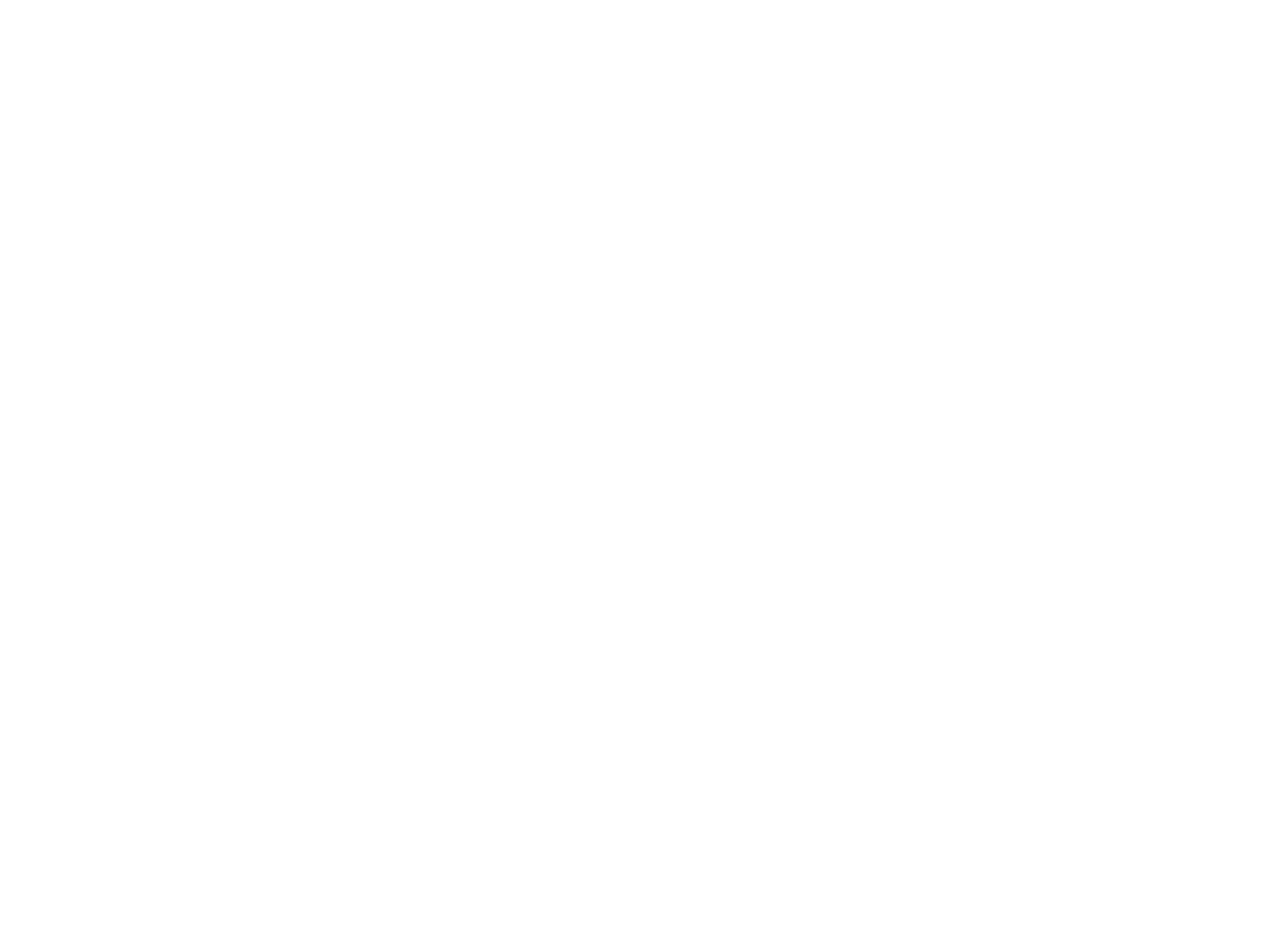
Здание Государственного Дворянского земельного и Крестьянского поземельного банков, комплекс зданий конца XIX-начала XX вв. Фотография Е.Борисовой
Дворянский банк расположился в Петербурге на Адмиралтейской набережной. Дворянам его создание сулило исключительные выгоды. Государство их поддерживало напрямую. Основу средств банка составили государственные финансы. Выдача ссуд потомственным дворянам под залог их земель предполагалась на сроки от 11 до 66,5 лет с платежом роста менее 5% в год. Дворянин мог заложить землю, а Дворянский банк мог передать эту землю желающим ее обрабатывать, как правило, крестьянам. Но помещик мог выкупить землю назад, а за то, что воспользовался залогом, получал большие деньги, которые мог вложить в свою землю. Тогда банк не отдавал землю крестьянам, помещик сам в нее вкладывал средства и быстро получал доходы, потому что платежи по процентам были очень малые.
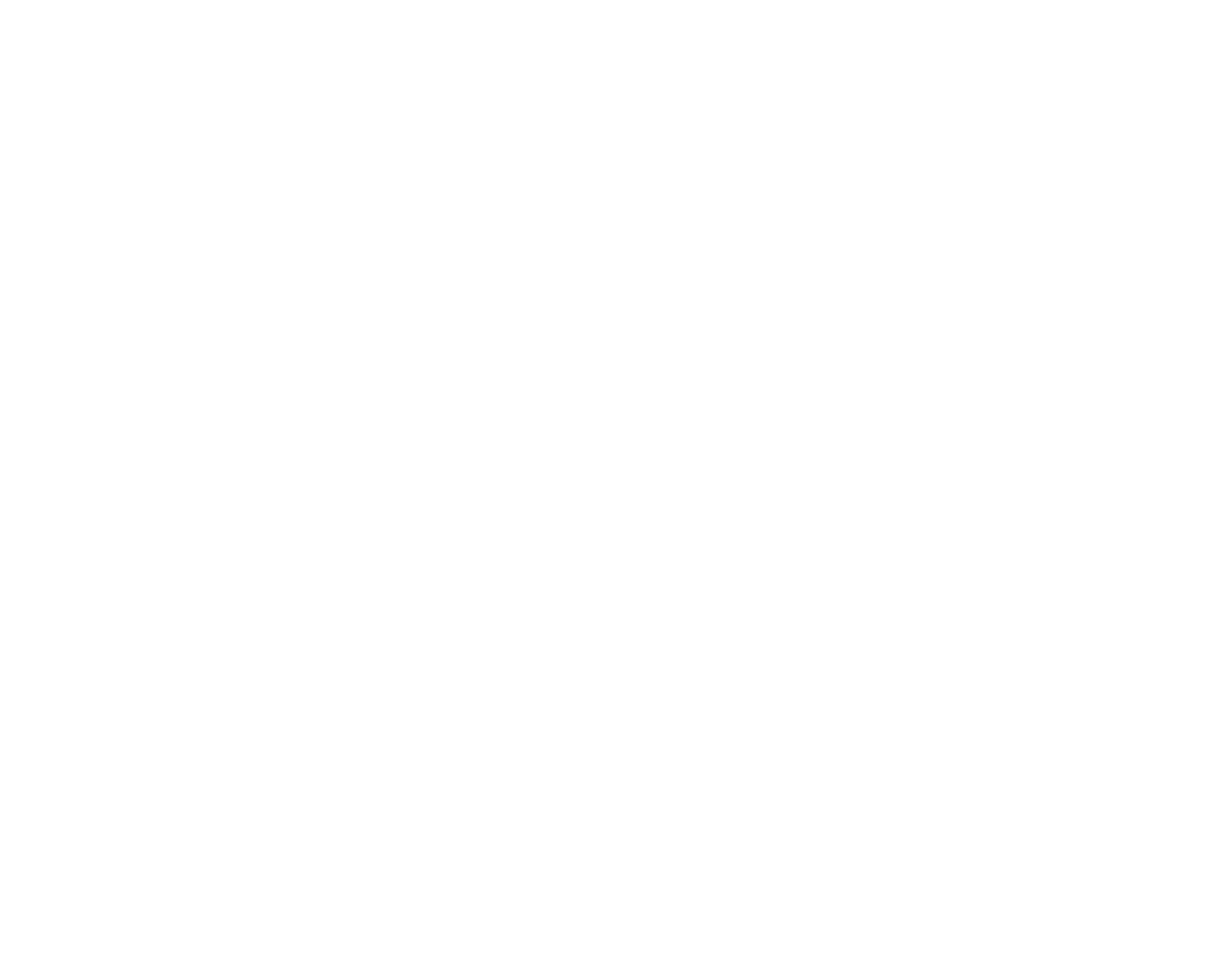
Закладной лист Дворянского земельного банка, 1885 г.
Это выгодное предприятие провалилось только по одной причине – помещики в подавляющем большинстве вообще не хотели заниматься сельским хозяйством. Сохранившиеся у них под залогом земли они просто сдавали в аренду крестьянам. В таком случае, при больших нехозяйственных расходах помещика, арендных платежей не всегда хватало, чтобы вернуть землю из-под залога.
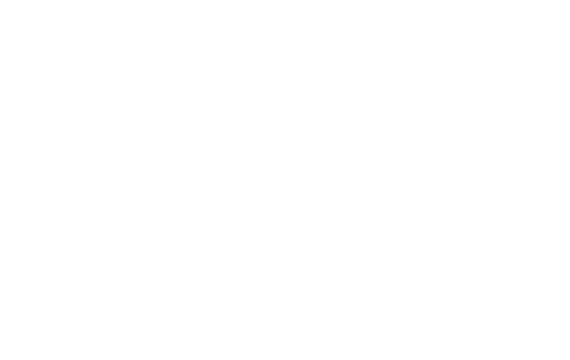
Здание отделений Дворянского земельного и Крестьянского поземельного банка в Воронеже,
1910-1911 гг.
1910-1911 гг.
Сначала Дворянский банк работал только в европейской России, кроме Финляндии, Польши, Закавказья и Прибалтики, но в 1890 году его деятельность была распространена на Закавказские губернии, а в 1894 году — на Западные губернии. Дворянский банк упразднили декретом большевики 25 ноября/8 декабря 1917 одновременно с Крестьянским поземельным банком, созданным по рекомендации «сведущих людей» для поддержки крестьянского землевладения в начале царствования Александра III.
5. Алексей Пазухин — идеолог консервативного дворянства
Законы, акты и создание банка стали необходимой, но формальной оболочкой, наполнить которую должно было некое идейное содержание. В ответ на акт к столетию Жалованной Грамоты дворянские собрания принялись благодарить Императора за милость и за возможность принять участие в управлении страной. Дворяне просили усилить правительственную власть на местах, чтобы жить в своих имениях безопасно. Для этого дворяне надеялись восстановить права в местных сельских обществах, чтобы там они могли доминировать несмотря на намного меньшую численность по сравнению с крестьянами и мещанами.
Законы, акты и создание банка стали необходимой, но формальной оболочкой, наполнить которую должно было некое идейное содержание. В ответ на акт к столетию Жалованной Грамоты дворянские собрания принялись благодарить Императора за милость и за возможность принять участие в управлении страной. Дворяне просили усилить правительственную власть на местах, чтобы жить в своих имениях безопасно. Для этого дворяне надеялись восстановить права в местных сельских обществах, чтобы там они могли доминировать несмотря на намного меньшую численность по сравнению с крестьянами и мещанами.
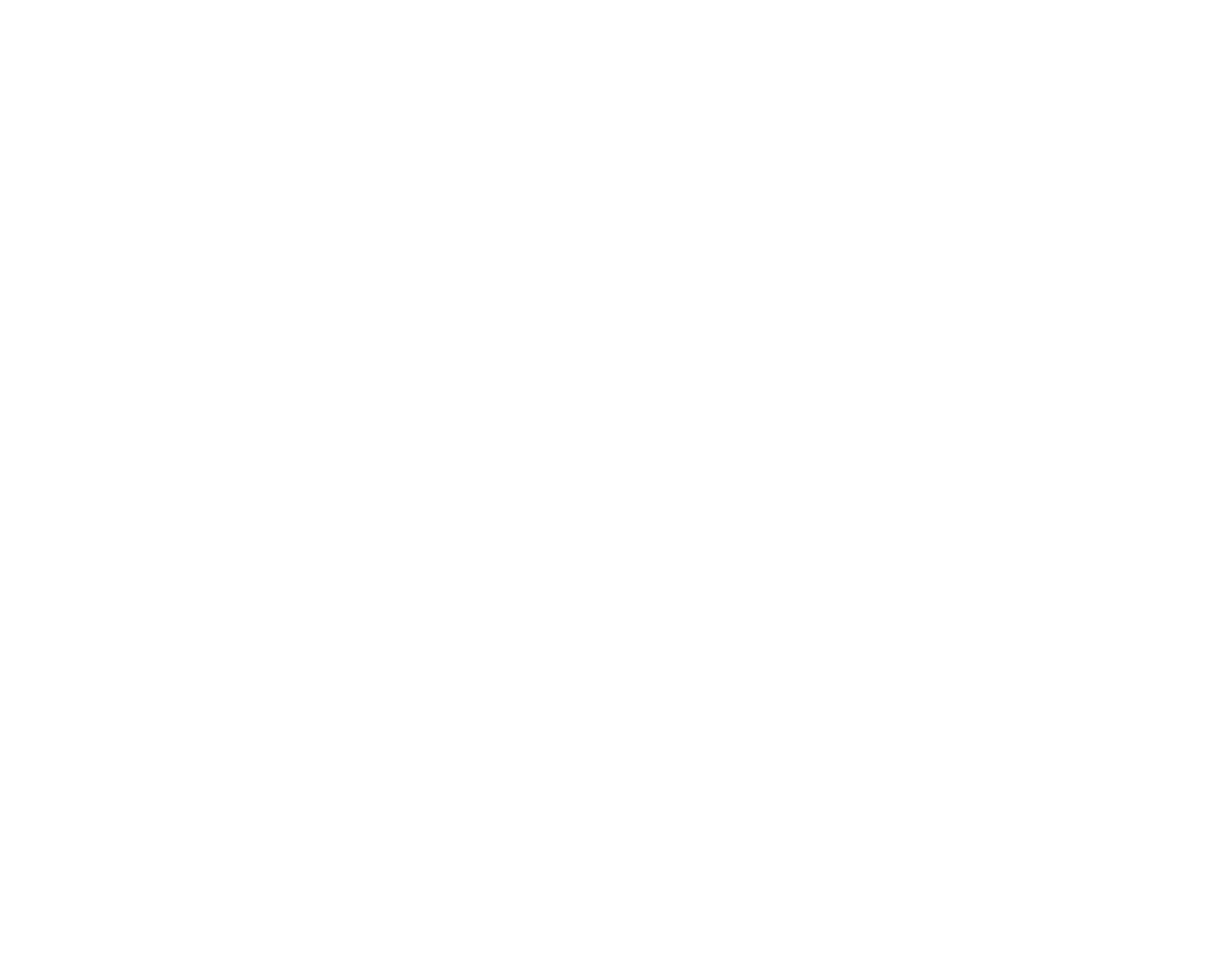
Алексей Пазухин, гравюра по фотографии В.Ясвоина, Журнал «Нива», № 07, 1891
Выразителем этих идей стал Алексей Дмитриевич Пазухин, выходец из старинного дворянского рода, известного с ХV века. Молодой и хорошо образованный, Пазухин возглавлял уездное Алатырьское дворянство Симбирской губернии. Алексей Пазухин родился в 1845 году, закончил Первую Московскую гимназию, юридический факультет Санкт-Петербургского университета, откуда был выпущен кандидатом права. В 1872 году Пазухин избран мировым судьей Алатырьского уезда, в 1878 году — предводителем уездного дворянства, и председательствовал в земской управе. В 1884 году его даже включили в Кахановскую комиссию для составления проектов по местному самоуправлению. Граф Толстой попытался сломать комиссию изнутри, чтобы пресечь ее либеральные предложения о всесословном земстве. Министр внедрил в комиссию ряд известных консерваторов, в их числе и Алексея Дмитриевича Пазухина. Двадцать лет назад историк Мария Александровна Боровая защитила кандидатскую диссертацию «А. Д. Пазухин. Общественно-политические взгляды и государственная деятельность». Я очень рекомендую ее почитать.
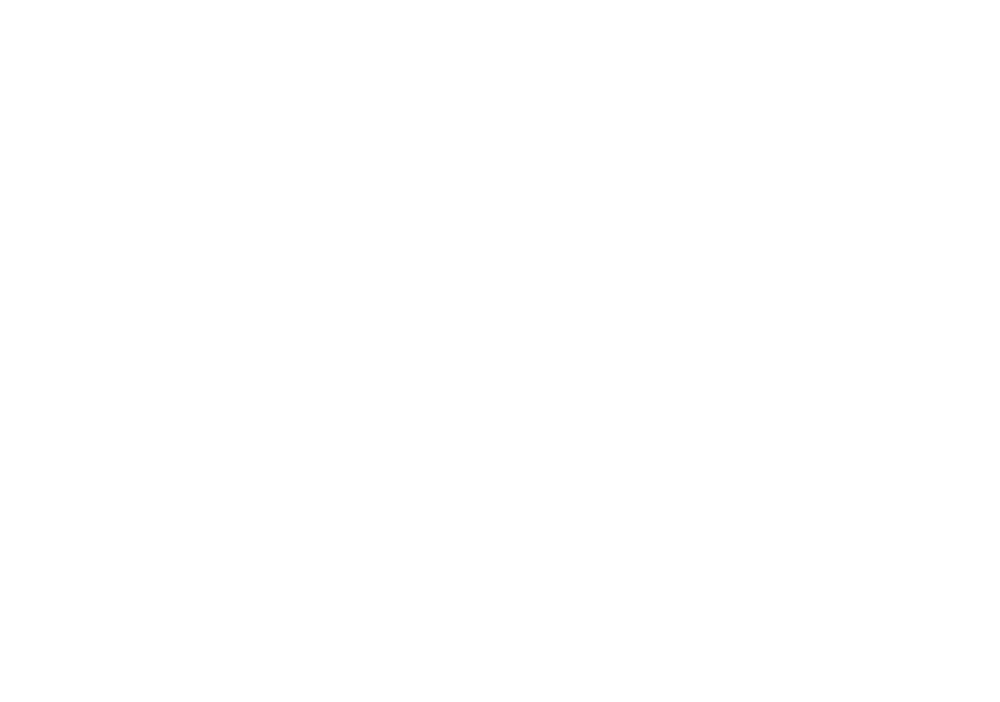
Город Алатырь, Симбирская улица, почтовая открытка начала XX в.
В 1885 году Алексей Пазухин публикует в «Русском вестнике» (тоже издание Каткова — А.З.) статью «Современное состояние России и сословный вопрос». В 1886 году Московская Университетская типография издала статью отдельной брошюрой. Пазухин утверждает, что ведущая роль в Российской Империи будет и дальше принадлежать дворянству и предлагает восстановить сословные учреждения. Статью заметил Министр внутренних дел Дмитрий Андреевич Толстой, который пригласил алатырского предводителя дворянства стать начальником своей канцелярии. Министр предложил Пазухину разработать новый закон о земстве и о том, как дворянству вновь утвердить власть и авторитет в сельской местности, в уездах и губерниях.
Пазухин сходу предлагает создать институт земских начальников. После крестьянской реформы помещики остались такими же землевладельцами, как и крестьяне, не имея больше на крестьян никаких прав. В сельской местности практически не осталось государственной власти кроме полицейских. Руководством на местах занимался крестьянский сельский мир. Идея Кахановской комиссии состояла в том, чтобы сельский мир сделать всесословным, чтобы туда, помимо крестьян, вошли мещане, дворяне и духовенство, жившие в волости и уезде. Предполагались даже квоты по уровню богатства и уровню образования. Понятно, что крестьяне задавали бы тон в самоуправлении, но и другие сословия не растворились бы в крестьянской массе. Но инициатива комиссии была проигнорирована властью.
Пазухин сходу предлагает создать институт земских начальников. После крестьянской реформы помещики остались такими же землевладельцами, как и крестьяне, не имея больше на крестьян никаких прав. В сельской местности практически не осталось государственной власти кроме полицейских. Руководством на местах занимался крестьянский сельский мир. Идея Кахановской комиссии состояла в том, чтобы сельский мир сделать всесословным, чтобы туда, помимо крестьян, вошли мещане, дворяне и духовенство, жившие в волости и уезде. Предполагались даже квоты по уровню богатства и уровню образования. Понятно, что крестьяне задавали бы тон в самоуправлении, но и другие сословия не растворились бы в крестьянской массе. Но инициатива комиссии была проигнорирована властью.
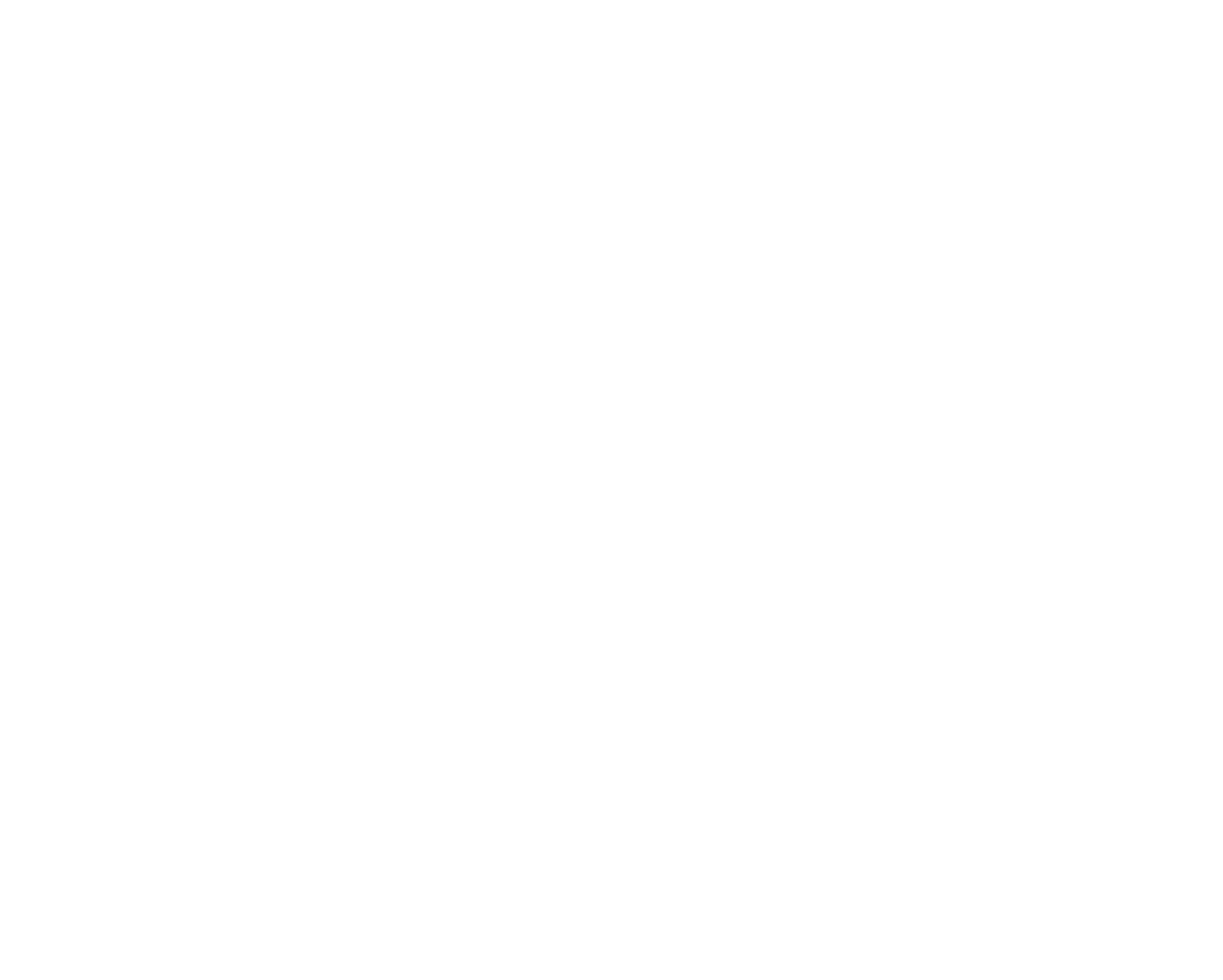
Титульный лист брошюры А.Пазухина
Вместо этого разумного предложения власти решили восстановить в волости роль дворянина-управителя. Участники Кахановской комиссии предполагали избрание волостного начальника. В системе самоуправления не хватало властной организации. Но Пазухин хотел, чтобы волостью руководил дворянин, которого выбирало дворянское собрание, а не всё население волости. Идея очень понравилась Дмитрию Андреевичу Толстому, который сам был богатым землевладельцем и весьма жадным человеком, не желающим расставаться богатством. Он хотел, чтобы крестьяне, пусть и лично свободные, оставались в подчинении дворян. Поэтому Толстой привлек Пазухина к разработке закона о земских начальниках.
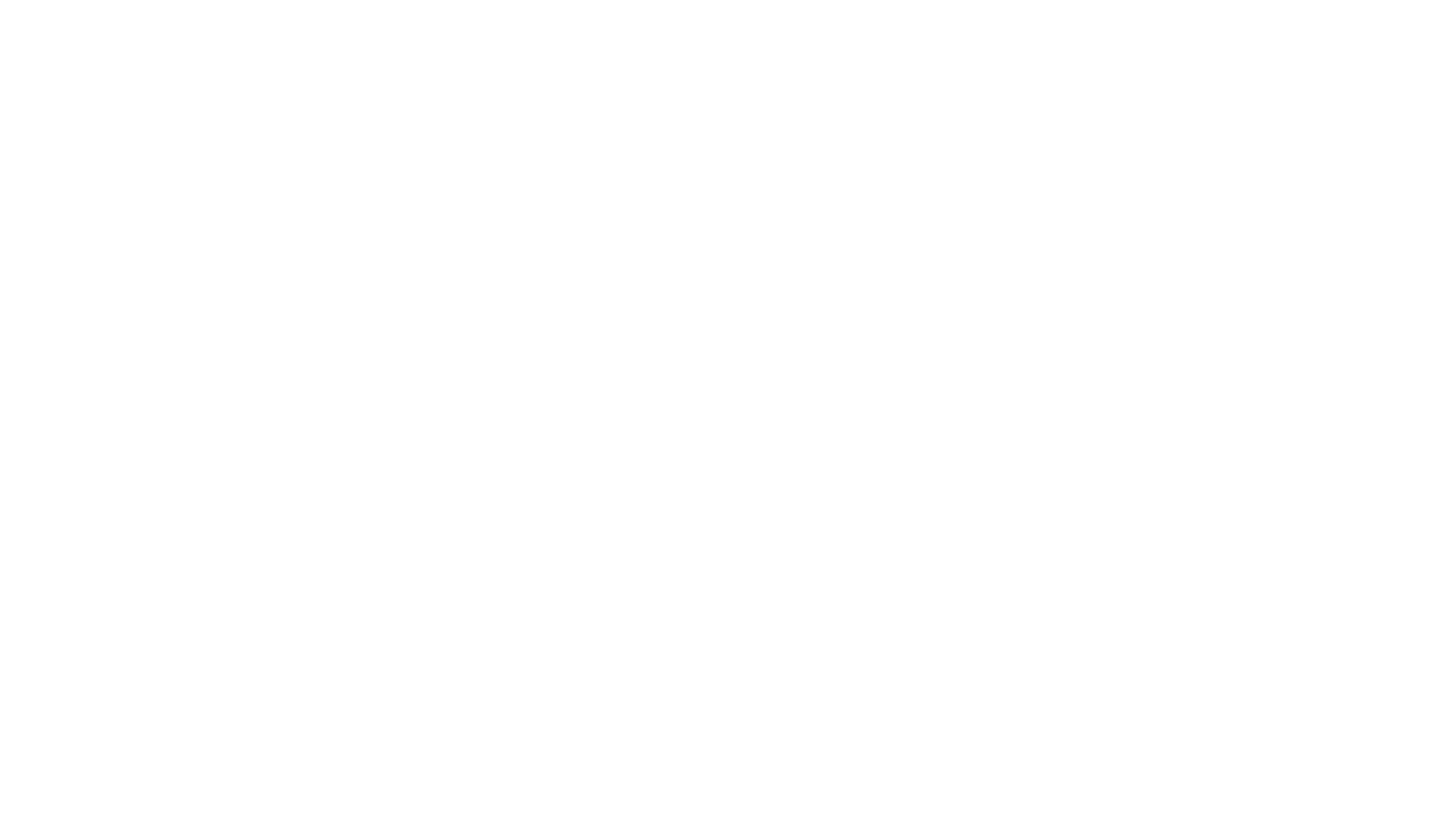
Здание волостного правления в селе Вятское Даниловского уезда Ярославской губернии,
начало XX в.
начало XX в.
Закон приняли не сразу и с оговорками. Указ о создании института земских начальников был подписан Александром III 12 июля 1889 года, уже после смерти графа Толстого. Пазухин умер вскоре после этого 27 января 1891 года, 45–ти лет отроду. Буквально накануне своей смерти он получил признание от Императора и был включен в корпорацию ордена святого Станислава: ему был вручен знак ордена высшей — 1–й степени.
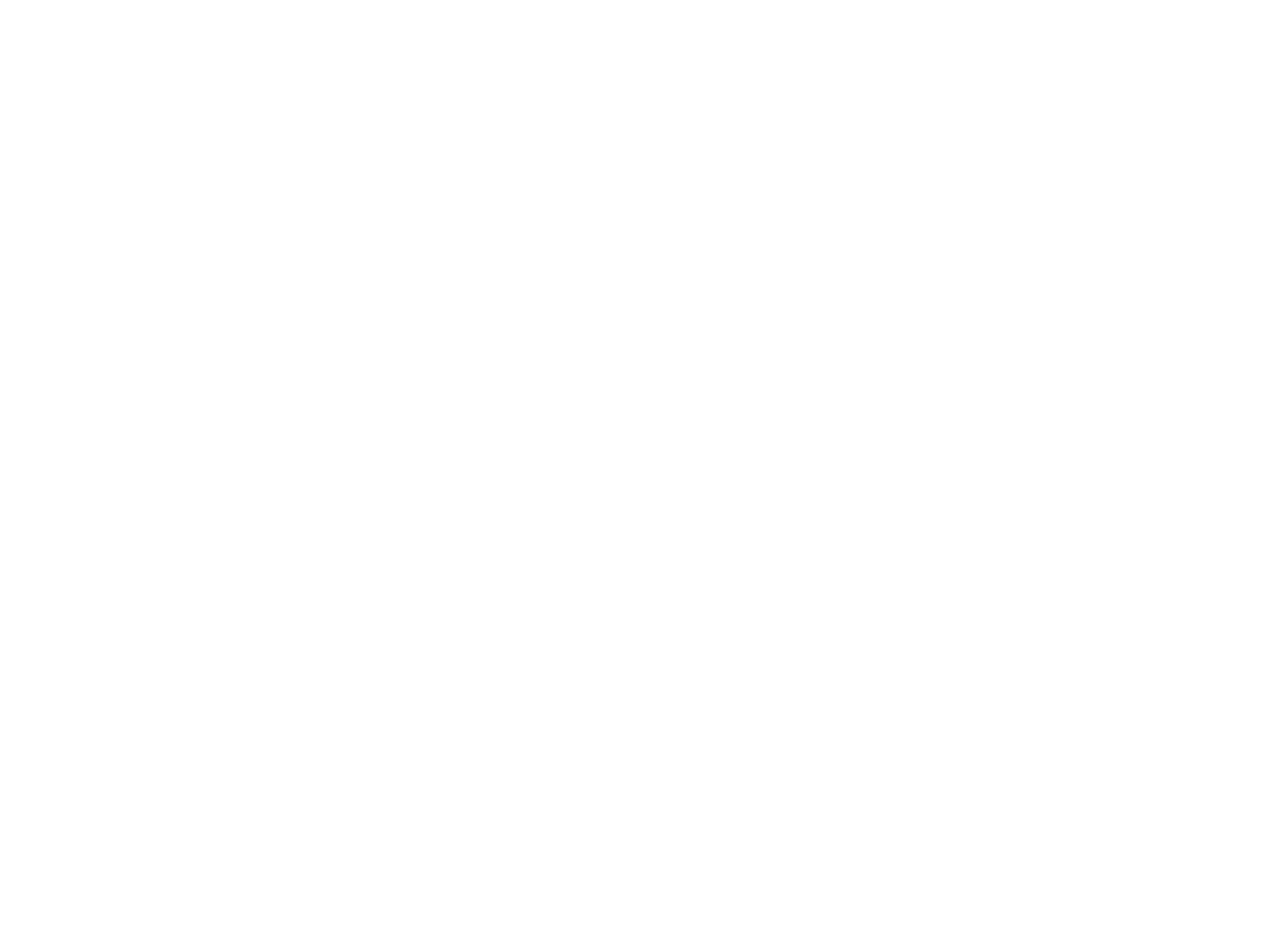
Знак ордена святого Станислава 1-й степени
Другой русский консерватор и реакционер философ Константин Николаевич Леонтьев в статье «Над могилой Пазухина» успел написать следующее – сам Константин Леонтьев умер в тот же год в ноябре:
«Честь же и слава тем немногим „бодрым“ людям, которые, подобно покойным графу Толстому и Алексею Пазухину, не „отчаялись в спасении отчизны“ и сделали первые попытки, первые смелые шаги на пути нового органического и целительного расслоения нашего общественного материала. „Слава Толстому!“ (естественно, имеется в виду Дмитрий Андреевич Толстой — А.З.) „Слава Пазухину!“ Не их будет вина, если то доброе семя, которое они так честно и смело сеяли, не взойдет как следует и не даст хорошей жатвы русским людям XX века. Не правительственные деятели, нам современные, будут виною этого бесплодия, а земские сословия наши:… дворянство, если оно окажется недостойным стать опорой Царской власти, крестьянство, если оно до того уже развращено недавней полусвободой своей, что не сумеет ни стать хозяйственно на ноги, ни политически терпеливо понести более строгое и спасительное подчинение дворянам, даже и плохим» [«Гражданин» № 64–67, 1891 г.].
«Честь же и слава тем немногим „бодрым“ людям, которые, подобно покойным графу Толстому и Алексею Пазухину, не „отчаялись в спасении отчизны“ и сделали первые попытки, первые смелые шаги на пути нового органического и целительного расслоения нашего общественного материала. „Слава Толстому!“ (естественно, имеется в виду Дмитрий Андреевич Толстой — А.З.) „Слава Пазухину!“ Не их будет вина, если то доброе семя, которое они так честно и смело сеяли, не взойдет как следует и не даст хорошей жатвы русским людям XX века. Не правительственные деятели, нам современные, будут виною этого бесплодия, а земские сословия наши:… дворянство, если оно окажется недостойным стать опорой Царской власти, крестьянство, если оно до того уже развращено недавней полусвободой своей, что не сумеет ни стать хозяйственно на ноги, ни политически терпеливо понести более строгое и спасительное подчинение дворянам, даже и плохим» [«Гражданин» № 64–67, 1891 г.].
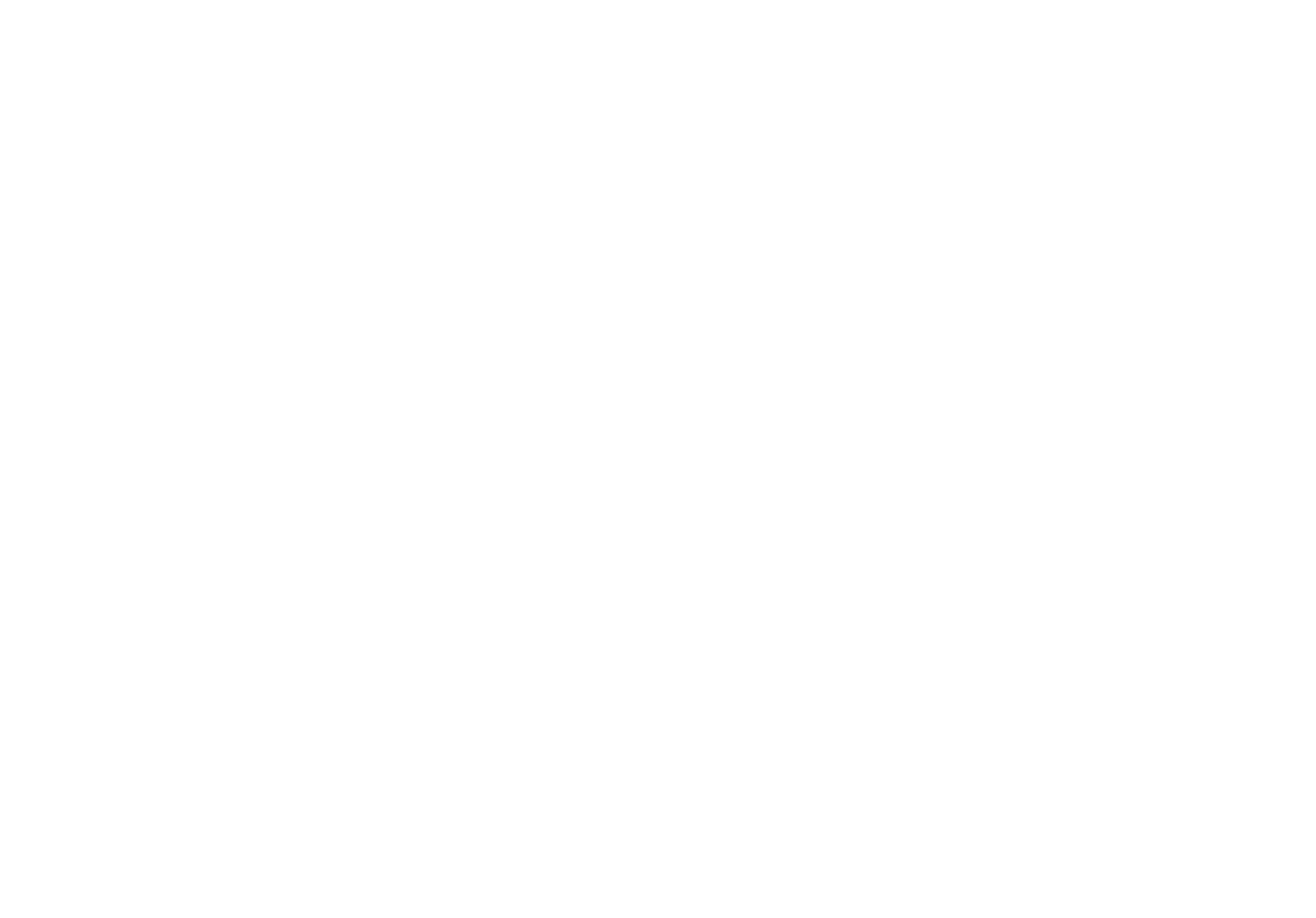
Константин Леонтьев, фотография неизвестного автора, вторая половина XIX в.
«Ранняя смерть Пазухина, — пишет Мария Боровая, — носила глубоко символичный характер. Весь его жизненный путь являет собой образец служения обречённому делу. На этом пути оказались бесполезными и высокая образованность, и умение владеть пером и волевые способности Алексея Дмитриевича Пазухина» [М.А.Боровая. А.Д. Пазухин. Общественно-политические взгляды и государственная деятельность, 2004].
Чтобы познакомиться с идеями Пазухина, обратимся к единственной концептуальной брошюре, которую он написал. Пазухин утверждает: «Мы видим Россию как бы раздвоенною. Существует Россия историческая, покоящаяся на тех основах, которые выработаны тысячелетием, преданная идеям которые завещаны ей прошлым, Россия верующая и способная на великие жертвы. Рядом с ней живет другая Россия, не знающая своей истории, не имеющая никаких идеалов, никакого уважения к прошлому, никаких забот о будущем, ни во что не верующая и способная лишь к разрушениям. Положение, в котором находится та и другая, далеко не одинаково. Весь установившийся склад жизни подавляет Россию историческую, которая осмеливается возвышать свой голос лишь в годины испытаний, когда грозит опасность самому существованию государства, между тем как другая, враждебная ей Россия, заявляет о себе каждодневно и требованием конституции, и хищением общественного достояния, и подвигами тайной крамолы» [А. Пазухин. Современное состояние России и сословный вопрос. М. Университетская типография, 1886 С.4].
Четверть века Великих реформ Пазухин объявляет антигосударственной, антирусской эпохой и считает, что с ней должно быть покончено.
Чтобы познакомиться с идеями Пазухина, обратимся к единственной концептуальной брошюре, которую он написал. Пазухин утверждает: «Мы видим Россию как бы раздвоенною. Существует Россия историческая, покоящаяся на тех основах, которые выработаны тысячелетием, преданная идеям которые завещаны ей прошлым, Россия верующая и способная на великие жертвы. Рядом с ней живет другая Россия, не знающая своей истории, не имеющая никаких идеалов, никакого уважения к прошлому, никаких забот о будущем, ни во что не верующая и способная лишь к разрушениям. Положение, в котором находится та и другая, далеко не одинаково. Весь установившийся склад жизни подавляет Россию историческую, которая осмеливается возвышать свой голос лишь в годины испытаний, когда грозит опасность самому существованию государства, между тем как другая, враждебная ей Россия, заявляет о себе каждодневно и требованием конституции, и хищением общественного достояния, и подвигами тайной крамолы» [А. Пазухин. Современное состояние России и сословный вопрос. М. Университетская типография, 1886 С.4].
Четверть века Великих реформ Пазухин объявляет антигосударственной, антирусской эпохой и считает, что с ней должно быть покончено.
Далее Пазухин говорит откровенно: «Мы думаем, что в земской реформе главным образом, а также в последующих преобразованиях, находящихся с ней в связи и однородных с ней по духу, следует искать главную причину современной дезорганизации. В основе их лежало начало глубоко противное нашей истории и потребностям государственным».
То есть, с точки зрения Пазухина, освобождение крестьян — это хорошо, все остальные реформы, особенно земская и судебная, — плохо. Примечательно, что Пазухин — сам кандидат права, мировой судья, прекрасно разбирающийся во всех юридических аспектах реформ, не приемлет преобразований предшествовавшего царствования.
Отмечу, что такой общественный институт, как крепостное право, устарел не только из-за своей абсолютной аморальности. Он устарел и потому, что появились новые системы коммуникаций, железные дороги, паровая машина, пароход, телеграф, газеты с массовыми тиражами, выросло качество образования. Общество менялось и уже не могло быть институционально таким как при Екатерине II. Все это делало преобразования необходимыми и неизбежными.
То есть, с точки зрения Пазухина, освобождение крестьян — это хорошо, все остальные реформы, особенно земская и судебная, — плохо. Примечательно, что Пазухин — сам кандидат права, мировой судья, прекрасно разбирающийся во всех юридических аспектах реформ, не приемлет преобразований предшествовавшего царствования.
Отмечу, что такой общественный институт, как крепостное право, устарел не только из-за своей абсолютной аморальности. Он устарел и потому, что появились новые системы коммуникаций, железные дороги, паровая машина, пароход, телеграф, газеты с массовыми тиражами, выросло качество образования. Общество менялось и уже не могло быть институционально таким как при Екатерине II. Все это делало преобразования необходимыми и неизбежными.
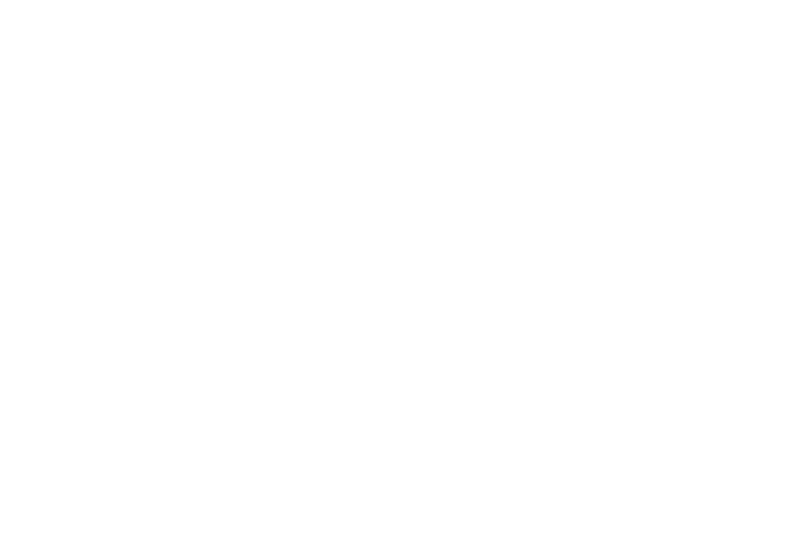
Паровой трамвай в Киеве. 1892 г.
Реакционер же хочет все остановить и заморозить. Неурядицу, столь естественную при быстром развитии, он объясняет порочностью самого развития. Поэтому он хочет его остановить. Константин Леонтьев говорил впрямую: «Россию надо хорошенько подморозить».
Но проблему нужно было решать совсем иначе. Законодателям необходимо было с большой мудростью давать простор новым социальным силам и процессам, подстраивать общество к новому уровню развития экономики, коммуникаций, национального богатства и открытости миру. Это и есть прогресс. Если же мир идет вперед, а развитие общества искусственно придерживается, то случается взрыв, который и произошел очень скоро в России.
Но проблему нужно было решать совсем иначе. Законодателям необходимо было с большой мудростью давать простор новым социальным силам и процессам, подстраивать общество к новому уровню развития экономики, коммуникаций, национального богатства и открытости миру. Это и есть прогресс. Если же мир идет вперед, а развитие общества искусственно придерживается, то случается взрыв, который и произошел очень скоро в России.
Вернемся к Пазухину: «Крестьяне были избавлены от произвола помещичьей власти, но вековая связь между этими сословиями не была порвана. Эта связь обусловливалась как солидарностью экономических интересов, так, в особенности, потребностью для массы крестьянского населения в ближайшем руководстве и защите, потребностью, которая не могла быть удовлетворена властью без посредства поместного дворянства».
Пазухин считает, что крестьянство само руководить собой не способно. Конечно, это абсурд. Даже если крестьянам еще не хватало навыков в организации самоуправления после стольких лет рабства и из-за неграмотности, то навыки эти надо было любовно восстанавливать и растить, а не возвращать старые отношения начальника-помещика и холопов крестьян.
Пазухин считает, что крестьянство само руководить собой не способно. Конечно, это абсурд. Даже если крестьянам еще не хватало навыков в организации самоуправления после стольких лет рабства и из-за неграмотности, то навыки эти надо было любовно восстанавливать и растить, а не возвращать старые отношения начальника-помещика и холопов крестьян.
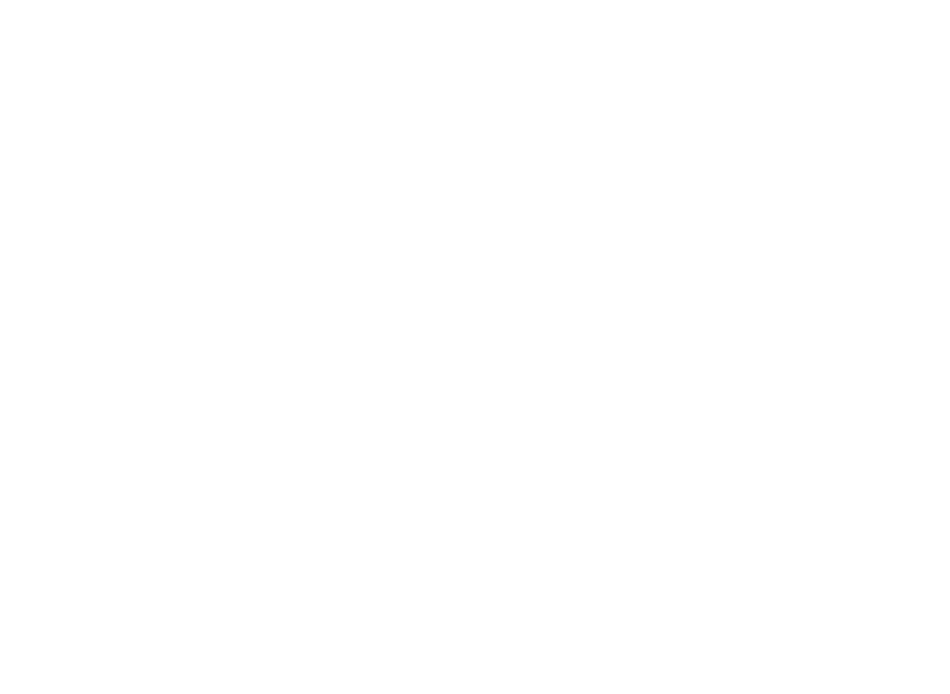
Наем прислуги, художник Владимир Маковский, 1891 г.
Пермская государственная художественная галерея
Пермская государственная художественная галерея
Пазухин же пишет: «Грубая форма бесправных отношений заместилась отношениями правомерными. Крестьяне получили естественных руководителей в лице посредников, с предводителем дворянства во главе. Таким образом, два важнейшие сословия России: крестьянство, главный элемент государственной силы, и дворянство, хранитель государственного сознания и политических преданий, остались на своих старых исторических устоях» [А. Пазухин. Современное состояние России и сословный вопрос. М. Университетская типография, 1886 С.9].
Здесь надо добавить, что в своей брошюре Пазухин пишет, что крестьян особо учить не надо, что современное образование, сельская школа вредна, так как она учат крестьян физике, астрономии и математике. Пазухин считает, что такие знания крестьянам совершенно не нужны (об этом же говорил и Победоносцев). Реакционеры полагали, что крестьянам достаточно уметь читать, писать, считать и знать Закон Божий. Если крестьян допустить к современным знаниям, то возникает конфликт отцов и детей. Родители верят в библейский мир, а дети открывают мир современной науки. Пазухин считает, что в русле образовательной контрреформы Делянова, высшее сословие должно сохранить образованность: пусть дворяне думают за неграмотных крестьян и управляют ими. Вот - логика консерваторов.
Здесь надо добавить, что в своей брошюре Пазухин пишет, что крестьян особо учить не надо, что современное образование, сельская школа вредна, так как она учат крестьян физике, астрономии и математике. Пазухин считает, что такие знания крестьянам совершенно не нужны (об этом же говорил и Победоносцев). Реакционеры полагали, что крестьянам достаточно уметь читать, писать, считать и знать Закон Божий. Если крестьян допустить к современным знаниям, то возникает конфликт отцов и детей. Родители верят в библейский мир, а дети открывают мир современной науки. Пазухин считает, что в русле образовательной контрреформы Делянова, высшее сословие должно сохранить образованность: пусть дворяне думают за неграмотных крестьян и управляют ими. Вот - логика консерваторов.
Пазухин сообщает интересный факт: «Кто бывал на крестьянских избирательных съездах, тот хорошо знает равнодушие крестьян к земским делам. На обязанности гласного (депутата – А.З.) они смотрят как на тяжелую и совсем несвойственную им повинность, почему всегда готовы выбрать в гласные первого заявившего о том желание, причем они вовсе не считают безнравственным получить за свои белые шары магарыч (то есть взятку – А.З.)» [Там же С.14]. Пазухин говорит правду, но вывода из этого можно сделать два: вообще распустить крестьянское самоуправление или учить крестьян правильной гражданской деятельности.
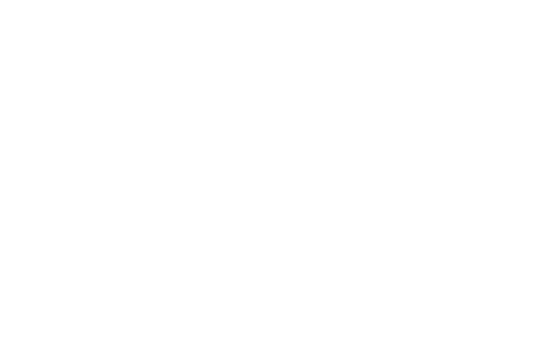
Земское собрание в провинции. Художник Константин Трутовский. 1864 г.
Гражданское сознание в обществе не возникает сразу. В 1989 году я защитил докторскую диссертацию по вопросу об адаптации парламентской демократии в обществах Востока (Индия, Япония, Ливан, Турция, Таиланд). Я наблюдал, как примерно за 20–25 лет повсюду, где начинают действовать механизмы всеобщей соревновательной демократии, малограмотная и политически индифферентная масса крестьян становится политически грамотной, даже без образования [А. Б. Зубов. Парламентская демократия и политическая традиция Востока; АН СССР, Ин-т востоковедения, Москва: Наука, 1990].
В диссертации и книге «Парламентская демократия и политическая традиция Востока» я показывал, что надо воспитывать народ в направлении демократии, но воспитывать самой демократией, то есть научить плавать, бросив в воду. Об этом же писали Самуэль Элдерсвельд и Башируддин Ахмед в очень интересном исследовании участия индийцев в политическом процессе. [Samuel J. Eldersveld and Bashiruddin Ahmed. Citizens and Politics: Mass Political Behavior in India. Chicago: University of Chicago Press, 1978]. В Индии еще Британская администрация начала приучать своих индийских подданных к парламентаризму, постепенно расширяя корпус избирателей и круг полномочий законодательных собраний всей Индийской Империи и ее провинций.
А в России власть наоборот стремилась законсервировать народ вне демократии, вообще отменить демократию и поручить управление необразованными крестьянами европейски-образованным дворянам. Пазухин прав в том, что крестьяне считали самоуправление тягостью. Они не понимали в нем толка, но как только они увидели бы плоды самоуправления, то и относиться стали к нему по-иному. Ведь русский крестьянин не тупее индийского или ливанского.
В диссертации и книге «Парламентская демократия и политическая традиция Востока» я показывал, что надо воспитывать народ в направлении демократии, но воспитывать самой демократией, то есть научить плавать, бросив в воду. Об этом же писали Самуэль Элдерсвельд и Башируддин Ахмед в очень интересном исследовании участия индийцев в политическом процессе. [Samuel J. Eldersveld and Bashiruddin Ahmed. Citizens and Politics: Mass Political Behavior in India. Chicago: University of Chicago Press, 1978]. В Индии еще Британская администрация начала приучать своих индийских подданных к парламентаризму, постепенно расширяя корпус избирателей и круг полномочий законодательных собраний всей Индийской Империи и ее провинций.
А в России власть наоборот стремилась законсервировать народ вне демократии, вообще отменить демократию и поручить управление необразованными крестьянами европейски-образованным дворянам. Пазухин прав в том, что крестьяне считали самоуправление тягостью. Они не понимали в нем толка, но как только они увидели бы плоды самоуправления, то и относиться стали к нему по-иному. Ведь русский крестьянин не тупее индийского или ливанского.
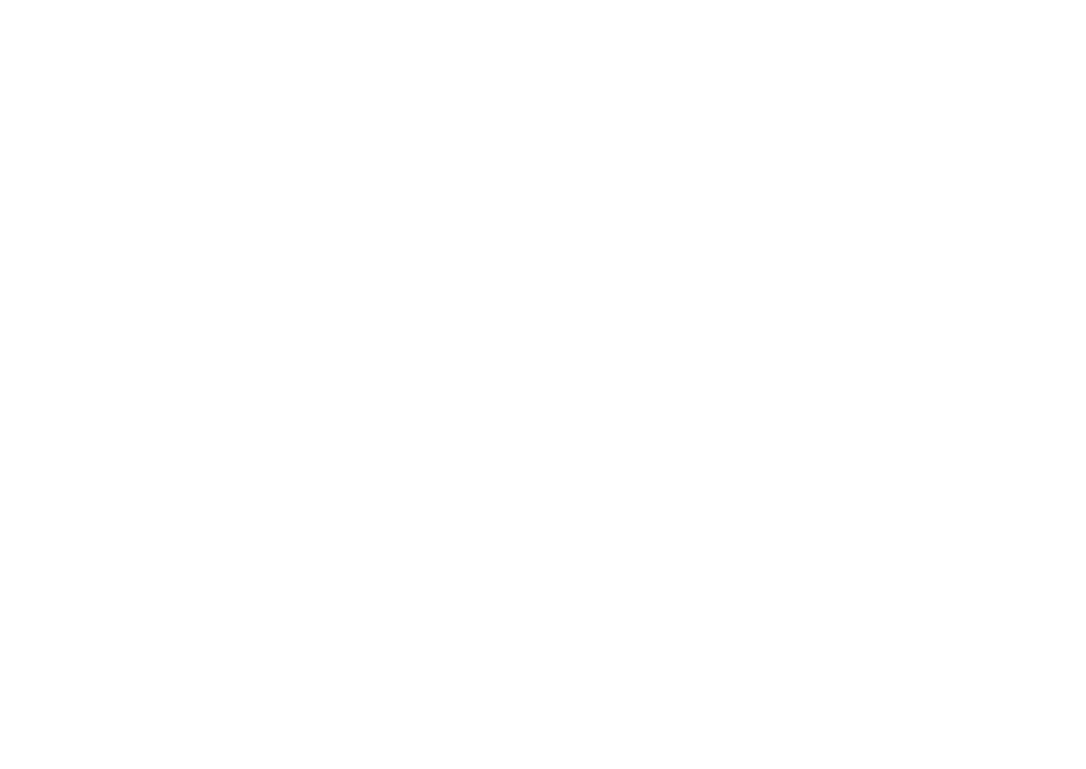
В земской больнице. Фотография М.П.Дмитриева, 1891 г.
О земстве Пазухин тоже не нашел хороших слов: «Наше земство идет быстрыми шагами к нравственному разложению. ... На бессословной почве очень быстро народились представители бессословного начала корысти. Если мало еще таких уездов, где земство находится в руках просто шайки негодяев, то немало уже таких, где на выборы лиц служащих по земству имеют влияние люди сомнительной нравственности. Там где поместное дворянство теряет влияние на ход дел, власть очень быстро переходит в грязные руки представителей новых элементов, неразборчивых в выборе средств, борьба с которыми для людей добросовестных невозможна» [А. Пазухин. Современное состояние России и сословный вопрос. М. Университетская типография, 1886 С.16].
Такая оценка земства — гадкая ложь. Среди земских деятелей были разные люди и хорошие, и плохие, и корыстные, и бескорыстные, и жертвенные, и умные, и глупые. А дворяне? Чего они только не творили во времена крепостного права, а главное, — не желали освобождать крестьян. Они не хотели дать тем, кто обеспечивал им весь доход то, чем они обладали сами: свободу, право распоряжаться самими собой, образование, культуру. Они хотели, чтобы крестьяне им приносили доход. Что могло быть более безнравственным, чем это?
Думаю, что Пазухин, как умный человек, должен был это понимать.
Такая оценка земства — гадкая ложь. Среди земских деятелей были разные люди и хорошие, и плохие, и корыстные, и бескорыстные, и жертвенные, и умные, и глупые. А дворяне? Чего они только не творили во времена крепостного права, а главное, — не желали освобождать крестьян. Они не хотели дать тем, кто обеспечивал им весь доход то, чем они обладали сами: свободу, право распоряжаться самими собой, образование, культуру. Они хотели, чтобы крестьяне им приносили доход. Что могло быть более безнравственным, чем это?
Думаю, что Пазухин, как умный человек, должен был это понимать.
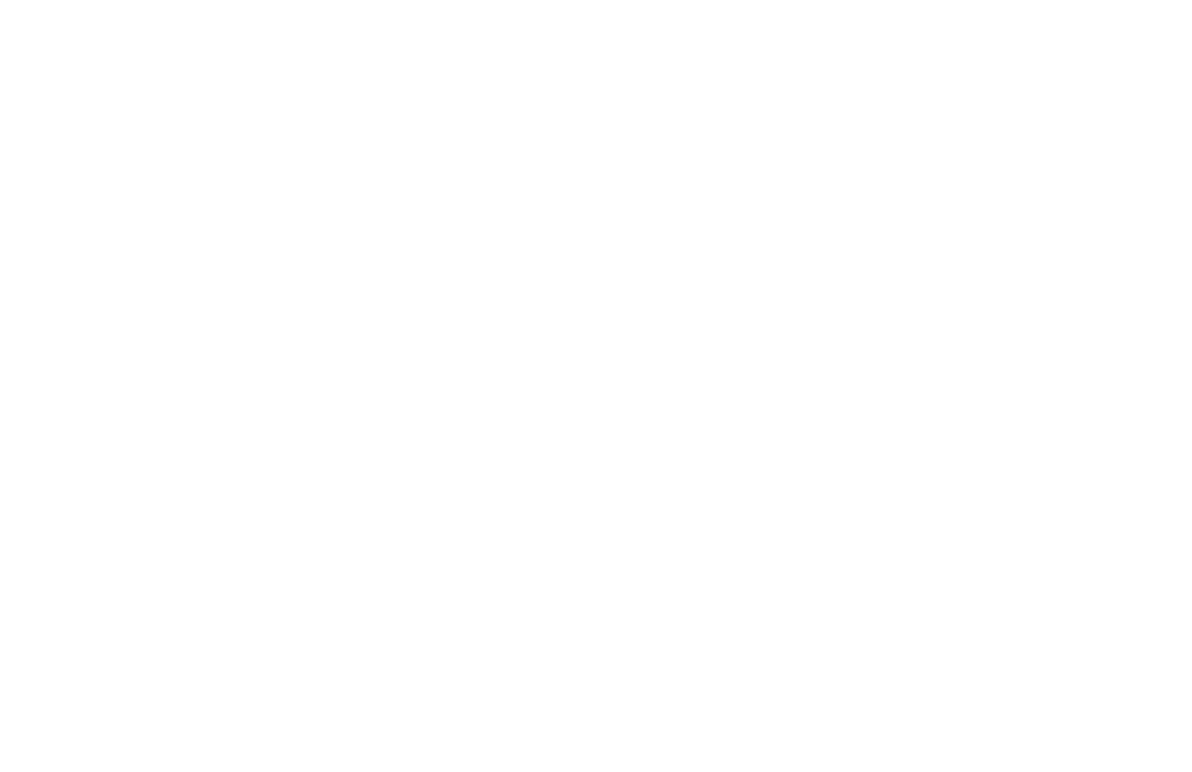
Здание дворянского собрания в Саратове, почтовая открытка конца XIX-нач.XX гг.
Но, с другой стороны, Пазухин ясно видит, чем Великие реформы обернулись для дворянства: «Социальная нивелировка, начавшаяся с земской реформы, лишила дворянство всех служилых прав как по местному, так и по государственному управлению. Утрата служебных привилегий имела последствием ослабление связи дворянства с правительством, распадение дворянства как корпорации и постепенное падение его авторитета среди населения. Это ненормальное политическое положение отозвалось в свою очередь неблагоприятно на дворянской земельной собственности» [А. Пазухин. Современное состояние России и сословный вопрос. М. Университетская типография, 1886 С.16].
А откуда же взялось дворянство? Пазухин рассуждает просто: в отличие от Европы, где сословия боролись друг с другом, и отсюда возможна демократия, Россия всегда жила как осажденный лагерь. На нее нападало «басурманство и латинство», то есть мусульмане и католики,и все вынуждены были жить как в осажденной крепости, где дворяне были офицерами, а крестьяне — солдатами. Ничего не изменилось, Россия остается осажденной крепостью, считает Пазухин, поэтому сословная организация должна быть незыблема.
В Московском университете Пазухин слушал лекции Сергея Михайловича Соловьева, но ничего не понял. Он остался в примитивном мире осажденной крепости. В эту ловушку и сейчас пытаются загнать население России, опять убеждают людей, что вокруг враги, и мы боремся со всем миром, — старый прием всех реакционеров и тиранов.
А откуда же взялось дворянство? Пазухин рассуждает просто: в отличие от Европы, где сословия боролись друг с другом, и отсюда возможна демократия, Россия всегда жила как осажденный лагерь. На нее нападало «басурманство и латинство», то есть мусульмане и католики,и все вынуждены были жить как в осажденной крепости, где дворяне были офицерами, а крестьяне — солдатами. Ничего не изменилось, Россия остается осажденной крепостью, считает Пазухин, поэтому сословная организация должна быть незыблема.
В Московском университете Пазухин слушал лекции Сергея Михайловича Соловьева, но ничего не понял. Он остался в примитивном мире осажденной крепости. В эту ловушку и сейчас пытаются загнать население России, опять убеждают людей, что вокруг враги, и мы боремся со всем миром, — старый прием всех реакционеров и тиранов.
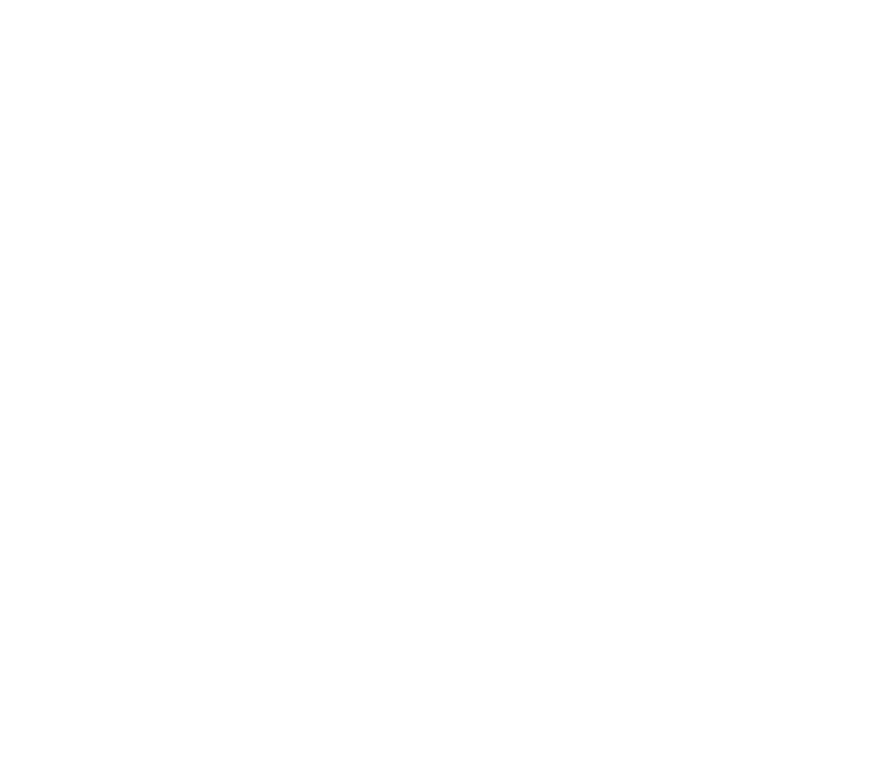
Предводитель уездного дворянства (предводитель Коротоякского дворянства Воронежской губернии Леонид Савелов), 1895.
"Острогожский историко-художественный музей имени И.Н. Крамского"
"Острогожский историко-художественный музей имени И.Н. Крамского"
Пазухин крайне негативно настроен к интеллигенции, — выросшему в результате Великих реформ всесословному образованному сообществу, которое приходило на место дворянам. Дворяне не исполнили своего долга, когда отказались освобождать крестьян. И именно поэтому всесословное разночинное общество ненавистно Пазухину.
«Одновременно с постепенным разрушением сословий, — пишет он, — народилось и стало очень быстро разрастаться бессословное общество, недавно получившее название интеллигенции. Под этим именем обыкновенно разумеют культурный слой, который, возвышаясь над народом уровнем умственного развития, является представителем интересов, выразителем мнений и истолкователем чувств и желаний народа. Во избежание недоразумений, это определение необходимо дополнить следующим пояснением: так как народ не есть только механическое сочетание единиц, а совокупность живых органических союзов, бытовых групп, исторических сословий, то и культурный слой не есть элемент однородный, способный представлять интересы всей массы народа… (то есть поэтому интеллигенция — это фикция — А.З.) Нас не может не поражать факт очень быстрого увеличения нашей интеллигенции, очевидно не находящейся в соответствии с потребностями населения, и совершенного отчуждения этой интеллигенции от народа (в народ шло огромное количество земских людей, не как революционеры, а как врачи, учителя, агрономы, инженеры. Но по Пазухину, интеллигенция отчуждена от народа — А.З.). На факт этот давно уже обращено внимание, но объяснение этого печального явления будет всегда возбуждать очень много недоумений, если мы не поставим его в связь с сословным вопросом. Уничтожение сословных привилегий, идея общего равенства, легкий доступ к пользованию правами государственной службы, (не дворянам — А.З.) не могли не усиливать это стремление из сферы практической сословной жизни в сферу интеллектуального брожения, случайного труда, погони за доходными местами и выгодными профессиями, в сферу других предприятий и властолюбивых политических мечтаний. Расшатанные сословия начинают выбрасывать из своей среды массу лиц в бессословную среду интеллигенции. В это понятие входит все то, что находится вне сословного быта. Это есть то бесформенное общество, которое наполняет собою все щели, образовавшиеся в народном организме в эпоху реформ и которое теперь лежит довольно толстым пластом вверху России. Утрачивая все сословно-бытовые особенности, русский человек утрачивает и все национальные черты» [А. Пазухин. Современное состояние России и сословный вопрос. М. Университетская типография, 1886 С.39-40]
«Одновременно с постепенным разрушением сословий, — пишет он, — народилось и стало очень быстро разрастаться бессословное общество, недавно получившее название интеллигенции. Под этим именем обыкновенно разумеют культурный слой, который, возвышаясь над народом уровнем умственного развития, является представителем интересов, выразителем мнений и истолкователем чувств и желаний народа. Во избежание недоразумений, это определение необходимо дополнить следующим пояснением: так как народ не есть только механическое сочетание единиц, а совокупность живых органических союзов, бытовых групп, исторических сословий, то и культурный слой не есть элемент однородный, способный представлять интересы всей массы народа… (то есть поэтому интеллигенция — это фикция — А.З.) Нас не может не поражать факт очень быстрого увеличения нашей интеллигенции, очевидно не находящейся в соответствии с потребностями населения, и совершенного отчуждения этой интеллигенции от народа (в народ шло огромное количество земских людей, не как революционеры, а как врачи, учителя, агрономы, инженеры. Но по Пазухину, интеллигенция отчуждена от народа — А.З.). На факт этот давно уже обращено внимание, но объяснение этого печального явления будет всегда возбуждать очень много недоумений, если мы не поставим его в связь с сословным вопросом. Уничтожение сословных привилегий, идея общего равенства, легкий доступ к пользованию правами государственной службы, (не дворянам — А.З.) не могли не усиливать это стремление из сферы практической сословной жизни в сферу интеллектуального брожения, случайного труда, погони за доходными местами и выгодными профессиями, в сферу других предприятий и властолюбивых политических мечтаний. Расшатанные сословия начинают выбрасывать из своей среды массу лиц в бессословную среду интеллигенции. В это понятие входит все то, что находится вне сословного быта. Это есть то бесформенное общество, которое наполняет собою все щели, образовавшиеся в народном организме в эпоху реформ и которое теперь лежит довольно толстым пластом вверху России. Утрачивая все сословно-бытовые особенности, русский человек утрачивает и все национальные черты» [А. Пазухин. Современное состояние России и сословный вопрос. М. Университетская типография, 1886 С.39-40]
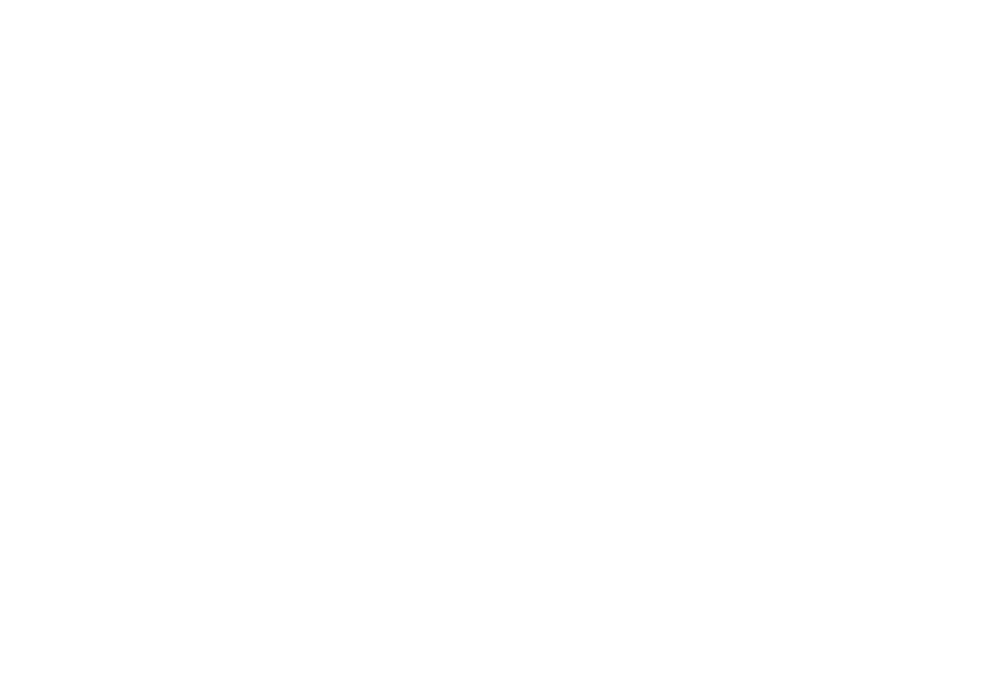
Литературное чтение, художник Владимир Маковский, 1866 г.
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Государственная Третьяковская галерея, Москва
То есть Пазухин фактически призывает ограничить социальную мобильность редкими включениями в состав дворянства лояльных Государю немногих недворян, преуспевших на государственной службе. Он не понимает нового процесса образования бессословного общества, не способен оценить его преимуществ. В современной России, где общество, при всех оговорках, бессословное, каждый может сделать практически любую карьеру, независимо от того, кем были его родители. Мы даже не понимаем, как остро стояла эта проблема, когда разрушалось сословное общество. А Пазухин был одним из самых ярких и горячих сторонником его сохранения.
Он говорит совершенно откровенно в конце своей статьи: «Если в реформах прошлого царствования (то есть Александра II — А.З.) мы усматриваем великое зло в том, что они разрушили сословную организацию, то задача настоящего должна состоять в восстановлении разрушенного.... Фикция о политическом равенстве сословий, об одинаковой их политической правоспособности… вносит смуту в общественный быт и мешает установлению правильных нормальных отношений между сословиями. Эти нормальные отношения явятся только тогда, как дворянство станет снова служилым и вместе земским сословием. Восстановление исторической земско-сословной организации требует также восстановления исторических прав. Только возвратив дворянству его права, а с тем вместе и обязанности по государственной и земской службам, можно скрепить связи между правительством и дворянством и между дворянством и землей… Удовлетворение потребностей сословных корпораций, меры к нормальному развитию сословной жизни должны быть поставлены в основу правительственной деятельности. Только твердая и последовательная политика в этом направлении может рассеять туманы, в которых блуждает современная мысль, положить предел социальному разложению, и восстановить авторитет правительственной власти, утраченный со времени введения в действие земской и судебной реформ. Остановив твердою рукой стремление к дальнейшему систематическому разрушению последних устоев государственной жизни, правительство должно немедленно приступить к исправлению в существующем политическом порядке всего, что содействует ослаблению этих устоев… (вот кредо — А.З.)
Он говорит совершенно откровенно в конце своей статьи: «Если в реформах прошлого царствования (то есть Александра II — А.З.) мы усматриваем великое зло в том, что они разрушили сословную организацию, то задача настоящего должна состоять в восстановлении разрушенного.... Фикция о политическом равенстве сословий, об одинаковой их политической правоспособности… вносит смуту в общественный быт и мешает установлению правильных нормальных отношений между сословиями. Эти нормальные отношения явятся только тогда, как дворянство станет снова служилым и вместе земским сословием. Восстановление исторической земско-сословной организации требует также восстановления исторических прав. Только возвратив дворянству его права, а с тем вместе и обязанности по государственной и земской службам, можно скрепить связи между правительством и дворянством и между дворянством и землей… Удовлетворение потребностей сословных корпораций, меры к нормальному развитию сословной жизни должны быть поставлены в основу правительственной деятельности. Только твердая и последовательная политика в этом направлении может рассеять туманы, в которых блуждает современная мысль, положить предел социальному разложению, и восстановить авторитет правительственной власти, утраченный со времени введения в действие земской и судебной реформ. Остановив твердою рукой стремление к дальнейшему систематическому разрушению последних устоев государственной жизни, правительство должно немедленно приступить к исправлению в существующем политическом порядке всего, что содействует ослаблению этих устоев… (вот кредо — А.З.)
Реформа земских и городских учреждений должна состоять в замене бессословного начала сословным, в установлении представительства от сословий вместо представительства от случайных групп разного рода имущественников. (То есть от людей разного дохода — А.З.). Такая реформа безусловно необходима в интересах государственной политики… Со введением сословного представительства восстановится значение нравственно-политического начала, в настоящее время вполне подавленного началом эгоистическим, и Россия снова вступит на исторический путь, который один может привести к водворению твердого политического порядка…
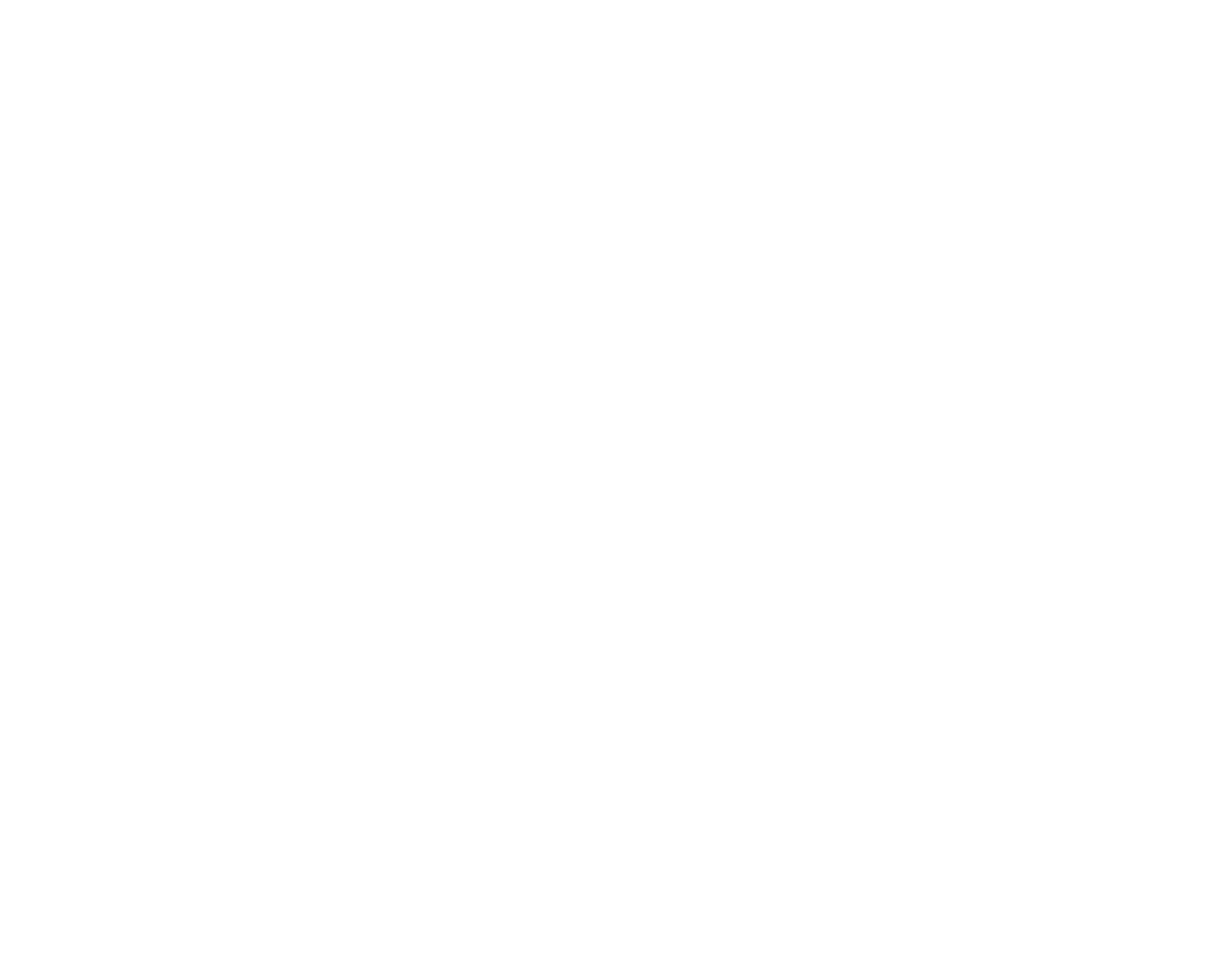
Губернский предводитель дворянства (Ярославский губернский предводитель дворянства в 1878-1882 гг. Виктор Калачов), Яркипедия
Нынешнее бессвязное сбродное земство заменится
определенными, хорошо знакомыми правительству, историческими силами», — завершает статью Пазухин [А. Пазухин. Современное состояние России и сословный вопрос. М. Университетская типография, 1886 С.57-60, 63].
Пазухин мечтал возродить дворянство таким, каким оно было еще при крепостном праве, пусть и крестьяне останутся лично свободными. Манифест мог бы остаться курьезом крайне реакционной политической мысли: восстановить дворянство как управляющее сословие для того, чтобы крестьяне больше не могли сами управлять собой и решать свои проблемы, а попали бы опять в подчинении дворян, но он, благодаря Дмитрию Толстому и самому Императору, стал идейным основанием новой государственной политики.
Манифест Пазухина претендовал на отмену реформ Александра II. Новый Император и Министерство внутренних дел взяли его идеи на вооружение и решили их исполнить.
определенными, хорошо знакомыми правительству, историческими силами», — завершает статью Пазухин [А. Пазухин. Современное состояние России и сословный вопрос. М. Университетская типография, 1886 С.57-60, 63].
Пазухин мечтал возродить дворянство таким, каким оно было еще при крепостном праве, пусть и крестьяне останутся лично свободными. Манифест мог бы остаться курьезом крайне реакционной политической мысли: восстановить дворянство как управляющее сословие для того, чтобы крестьяне больше не могли сами управлять собой и решать свои проблемы, а попали бы опять в подчинении дворян, но он, благодаря Дмитрию Толстому и самому Императору, стал идейным основанием новой государственной политики.
Манифест Пазухина претендовал на отмену реформ Александра II. Новый Император и Министерство внутренних дел взяли его идеи на вооружение и решили их исполнить.
6. Споры вокруг проекта земской контрреформы
Как ни странно, первое возражение на проект Пазухина (он был подготовлен к началу 1886 года — А.З.), изложил Императору Победоносцев. При общем согласии с Пазухиным, Победоносцеву показалось чрезмерным и невозможным опять сделать дворянина распорядителем и суда, и администрации, лишить прав все остальные сословия.
Победоносцев пишет Царю: «На шестой неделе Поста, в среду, собрал нас к себе граф Толстой. (Победоносцева, министра госимуществ Островского и министра юстиции Манасеина — А.З.) по важному делу, — для рассмотрения записки составленной по поручению его Пазухиным о преобразовании в местном управлении и в устройстве земских учреждений. Дело это, как известно Вашему Величеству, — дело величайшей важности, для прекращения безурядицы, ныне господствующей всюду… Вместо нынешней земской управы предполагается для распоряжения по земским делам присутствие, составленное из лиц местной администрации с участием 2 гласных от земства. Все мы согласны в основной мысли записки. Необходимо устроить в уезде для надзора за волостными делами единоличную власть (Это действительно было нужно — А.З.). Необходимо изменить нынешний характер земских учреждений, безответственных, отрешенных от центральной администрации и предоставленных всем случайностям выбора (В демократию Победоносцев не верил и выборы всегда называл «случайностью» — А.З.)... Но дело такой важности должно быть соображено во всех частях своих, не только со стороны принципиальной, но и со стороны практической, ибо какая польза вводить учреждение, которое не может действовать?» [Письма Победоносцева к Александру III. — М; Центрархив, 1925, Т.2 Письмо 56 от 18 апреля 1886 года. С.104-106].
Как ни странно, первое возражение на проект Пазухина (он был подготовлен к началу 1886 года — А.З.), изложил Императору Победоносцев. При общем согласии с Пазухиным, Победоносцеву показалось чрезмерным и невозможным опять сделать дворянина распорядителем и суда, и администрации, лишить прав все остальные сословия.
Победоносцев пишет Царю: «На шестой неделе Поста, в среду, собрал нас к себе граф Толстой. (Победоносцева, министра госимуществ Островского и министра юстиции Манасеина — А.З.) по важному делу, — для рассмотрения записки составленной по поручению его Пазухиным о преобразовании в местном управлении и в устройстве земских учреждений. Дело это, как известно Вашему Величеству, — дело величайшей важности, для прекращения безурядицы, ныне господствующей всюду… Вместо нынешней земской управы предполагается для распоряжения по земским делам присутствие, составленное из лиц местной администрации с участием 2 гласных от земства. Все мы согласны в основной мысли записки. Необходимо устроить в уезде для надзора за волостными делами единоличную власть (Это действительно было нужно — А.З.). Необходимо изменить нынешний характер земских учреждений, безответственных, отрешенных от центральной администрации и предоставленных всем случайностям выбора (В демократию Победоносцев не верил и выборы всегда называл «случайностью» — А.З.)... Но дело такой важности должно быть соображено во всех частях своих, не только со стороны принципиальной, но и со стороны практической, ибо какая польза вводить учреждение, которое не может действовать?» [Письма Победоносцева к Александру III. — М; Центрархив, 1925, Т.2 Письмо 56 от 18 апреля 1886 года. С.104-106].
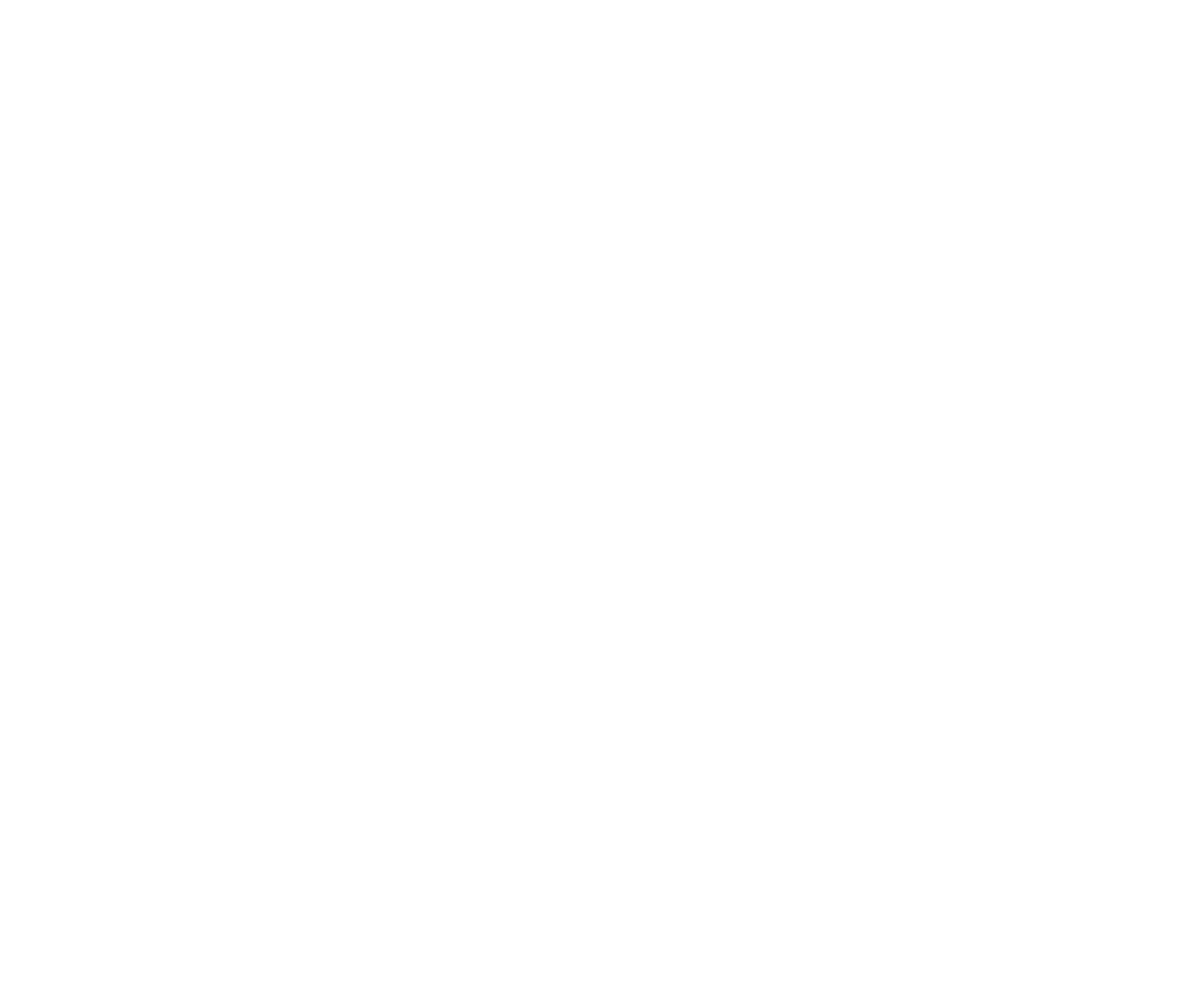
Карта волостей Рязанской губерниии, 1892 г.
Победоносцев считает, что модель Пазухина, когда дворянин, назначаемый дворянами, управляет волостью и в отношении администрации, и в отношении суда, не будет работать. Во-первых, администрацию и суд нельзя соединять. Во-вторых, — где другие сословия? Сам Победоносцев — выходец из духовенства, поэтому и у него возникает резонный вопрос. То, что не осознает родовитый дворянин Пазухин, прекрасно понимает Победоносцев.
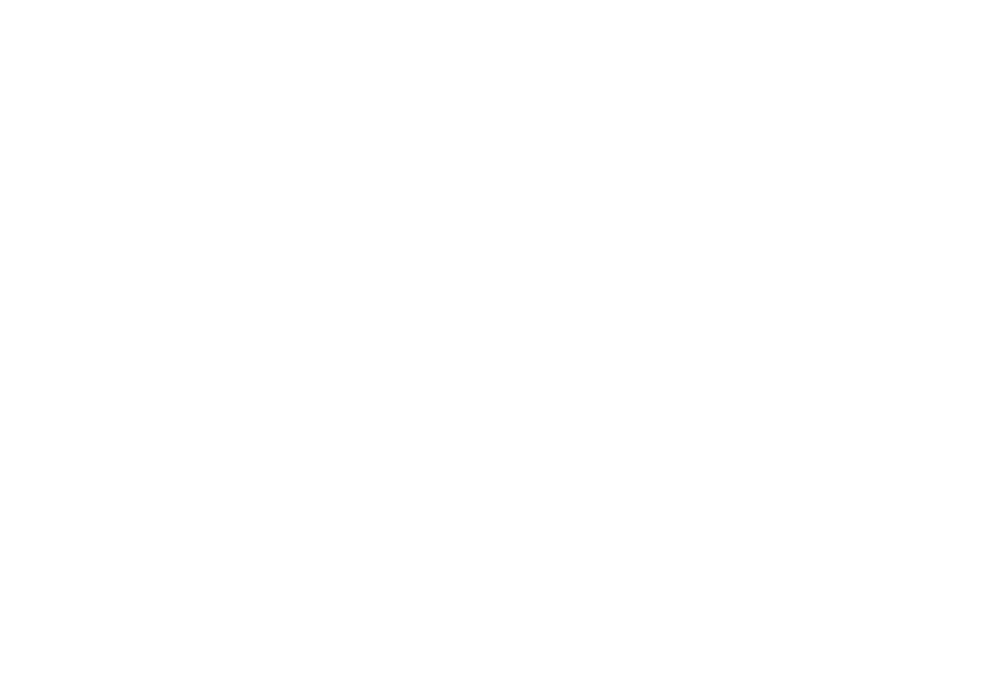
Николай Манасеин. Правительствующий сенат в XIX столетии после реформ 60-х годов
/Т. 3. 1895 г.
/Т. 3. 1895 г.
Министр юстиции Манасеин, хотя и дворянин, но тоже прекрасно понимал эти вещи. Николай Авксентьевич Манасеин происходил из казанских дворян. В годы преобразований Александра II он был активным сторонником судебной реформы. Манасеин служил мировым посредником Мещовского уезда Калужской губернии. В 35 лет его назначили обер-прокурором Московской судебной палаты - обратите внимание, какими молодыми были многие деятели Великих реформ. С 1877 до 1880 года Манасеин возглавлял департамент Министерства юстиции. На этом посту он сменил известного адвоката Анатолия Кони.
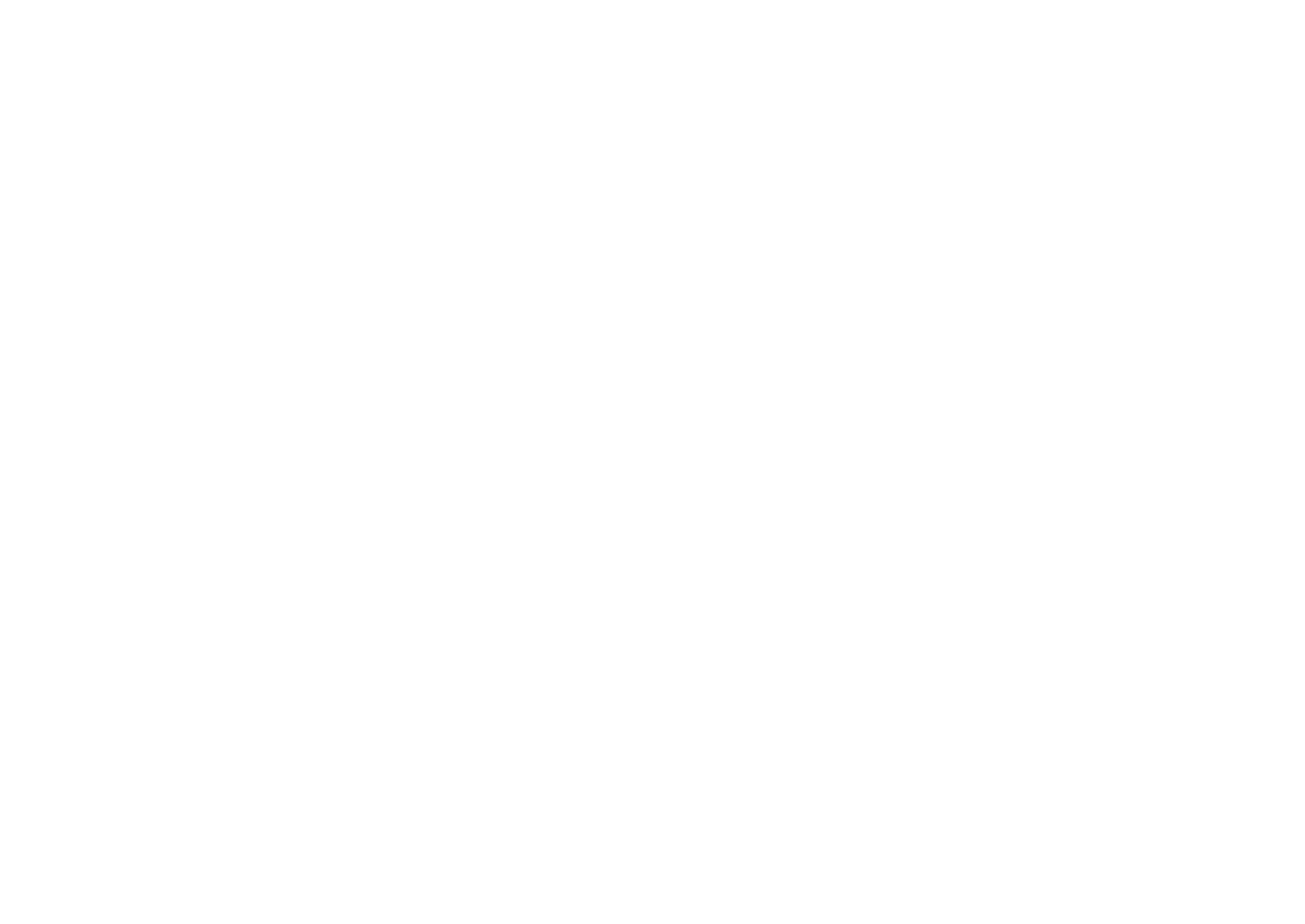
Анатолий Кони. Музей политической истории России
По словам самого Кони, на посту главы Московской прокуратуры Манасеин представлялся «настоящим человеком на настоящем месте», который направил свое «огромное трудолюбие и энергию… на служению судебным уставам верой и правдой». По наблюдению Кони это был человек, «чуждый интриге и лукавства, прямодушный в выражениях своих симпатий и антипатий, способный сознавать и даже оплакивать ошибки, далекий от суетного честолюбия» [А.Ф.Кони, Избранное, М; — Советская Россия, 1989].
Современник, старейший судебный репортер Екатерина Козлинина, хорошо знавшая Манасеина, писала, что «он был в высшей степени доступен для всех, у кого встречалась к нему потребность. Простота обращения Н.А.Манасеина была отличительной его чертой» [Е.И.Козлинина, За полвека. 1862 – 1912 гг.: Воспоминания, очерки и характеристики, М, Типография торгового дома Н. Бердоносов, Ф. Пригорин и Ко, 1913.].
Современник, старейший судебный репортер Екатерина Козлинина, хорошо знавшая Манасеина, писала, что «он был в высшей степени доступен для всех, у кого встречалась к нему потребность. Простота обращения Н.А.Манасеина была отличительной его чертой» [Е.И.Козлинина, За полвека. 1862 – 1912 гг.: Воспоминания, очерки и характеристики, М, Типография торгового дома Н. Бердоносов, Ф. Пригорин и Ко, 1913.].
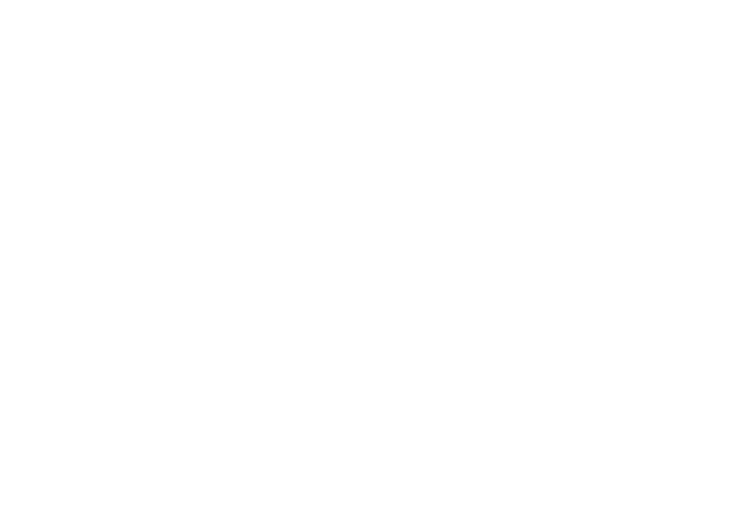
Екатерина Козлинина, фотография 1912 г.
При Манасеине судебные преобразования впервые коснулись значительной части России. По его настоятельной инициативе институт мировых судей появился в Степной области, Туркестанском крае и Архангельской губернии.
Как и многие современники Манасеин придерживался националистических взглядов. Его реформы по судопроизводству Балтийского края привели к сокращению автономии Балтийских губерний. Но при этом он был горячим сторонником продолжения реформ. Поэтому, когда Царь назначил его Министром юстиции, а граф Д.А.Толстой велел сворачивать судебную реформу, Манасеин воспротивился. Многие молодые реформаторы при изменении политического вектора саботировали контрреформы в меру возможностей, лавируя, чтобы не лишиться должностей. Тем самым они спасли плоды Великих реформ от полного разрушения.
Граф Толстой вынес проект закона, подготовленный Пазухиным, на Государственный Совет. На заседании Госсовета против закона Пазухина выступили министр юстиции Николай Манасеин, государственный контролер Дмитрий Сольский, глава отвергнутой комиссии, член Госсовета Михаил Каханов, бывший Министр просвещения Александр Николаи, Министр императорского двора и уделов Илларион Воронцов-Дашков, председатель Департамента государственной экономии Госсовета Александр Абаза. Все эти люди так или иначе были связаны с Великими реформами. Сам Пазухин не будучи членом Государственного Совета на заседаниях присутствовать не мог.
Как и многие современники Манасеин придерживался националистических взглядов. Его реформы по судопроизводству Балтийского края привели к сокращению автономии Балтийских губерний. Но при этом он был горячим сторонником продолжения реформ. Поэтому, когда Царь назначил его Министром юстиции, а граф Д.А.Толстой велел сворачивать судебную реформу, Манасеин воспротивился. Многие молодые реформаторы при изменении политического вектора саботировали контрреформы в меру возможностей, лавируя, чтобы не лишиться должностей. Тем самым они спасли плоды Великих реформ от полного разрушения.
Граф Толстой вынес проект закона, подготовленный Пазухиным, на Государственный Совет. На заседании Госсовета против закона Пазухина выступили министр юстиции Николай Манасеин, государственный контролер Дмитрий Сольский, глава отвергнутой комиссии, член Госсовета Михаил Каханов, бывший Министр просвещения Александр Николаи, Министр императорского двора и уделов Илларион Воронцов-Дашков, председатель Департамента государственной экономии Госсовета Александр Абаза. Все эти люди так или иначе были связаны с Великими реформами. Сам Пазухин не будучи членом Государственного Совета на заседаниях присутствовать не мог.
Особенно члены Госсовета раскритиковали намерение соединить в лице земского начальника административную и судебную власть над крестьянами, ликвидировав при этом мировой суд в
уездах.
В отзыве на проект закона, направленный в Государственный Совет, один из его членов, статс-секретарь Борис Павлович Мансуров напоминал: «Отделение власти административной от власти судебной есть краеугольный камень всякого благоустроенного государства, и это верно не только по теории, но еще гораздо более на практике» [цитата по В.Н.Гинев, Земские начальники: объективная необходимость или реакционная контрреформа? Петербургский исторический журнал, СПб, 2015].
уездах.
В отзыве на проект закона, направленный в Государственный Совет, один из его членов, статс-секретарь Борис Павлович Мансуров напоминал: «Отделение власти административной от власти судебной есть краеугольный камень всякого благоустроенного государства, и это верно не только по теории, но еще гораздо более на практике» [цитата по В.Н.Гинев, Земские начальники: объективная необходимость или реакционная контрреформа? Петербургский исторический журнал, СПб, 2015].
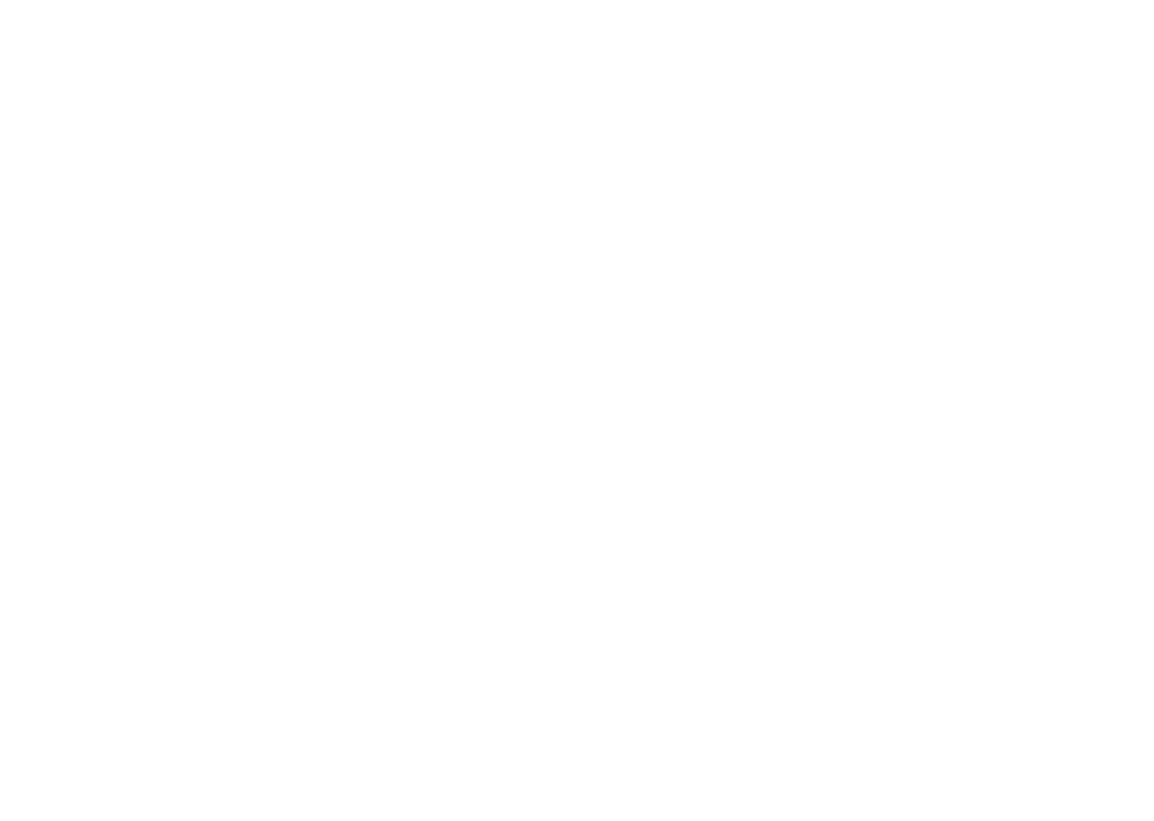
Волостные старшины у земского начальника, Фотография М.П.Дмитриева, 1890-е гг.
Принцип подбора кадров для будущего корпуса земских начальников также вызвал резкое неприятие ряда членов Государственного Совета. В необходимости начальника мало кто сомневался, но этот начальник должен быть избран земством, а не назначен дворянской управой. Сословный принцип не мог быть поставлен в ущерб образовательному и имущественному. Члены Госсовета указывали, что планируемому уездному и земскому начальнику дается слишком большая, почти бесконтрольная власть над крестьянами, что создаёт почву для произвола. Эти факты собрал историк Петр Андреевич Зайончковский, кстати, тоже выходец из дворян Смоленской губернии [П.А.Зайончковский, Российское самодержавие в конце ХIХ столетия. М: «Мысль», 1970 год].
Либеральная часть дворянской высшей государственной элиты выступила против ясно выраженного в проекте Министерства внутренних дел сословного дворянского уклона, прозорливо усмотрев в этом опасность для значительной части «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».
Либеральная часть дворянской высшей государственной элиты выступила против ясно выраженного в проекте Министерства внутренних дел сословного дворянского уклона, прозорливо усмотрев в этом опасность для значительной части «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».
Дворянство в этом вопросе оказалось совсем не монолитным. Дмитрий Толстой и Пазухин относились к реакционной его части. А либерально настроенные дворяне вовсе не хотели восстановления сословной власти, а скорее мечтали о всесословном государстве и в будущем — о конституции.
Барон Александр фон Николаи сказал на заседании Государственного совета по этому поводу: «Весьма нетрудно будет внушить крестьянину, что новое учреждение есть не что иное, как косвенное восстановление вотчинной полиции, что крестьянское население вновь отдается в полную власть помещикам, которые стремятся к восстановлению крепостного права». Так и было. Проект Пазухина давал отличную возможность врагам Империи настроить крестьян против власти.
Барон Александр фон Николаи сказал на заседании Государственного совета по этому поводу: «Весьма нетрудно будет внушить крестьянину, что новое учреждение есть не что иное, как косвенное восстановление вотчинной полиции, что крестьянское население вновь отдается в полную власть помещикам, которые стремятся к восстановлению крепостного права». Так и было. Проект Пазухина давал отличную возможность врагам Империи настроить крестьян против власти.
17 декабря 1888 года в письменном решении большинства участников совещания Соединенных департаментов Государственного Совета (18 против 7) было указано: «Образование земских начальников на почве крестьянских учреждений легко может быть объяснено в смысле меры, направленной к восстановлению, хотя бы и в измененном виде, тех прав дворянства над крестьянами, которые утрачены первыми с освобождением последних от крепостной зависимости и во всяком случае как закон, вредный для полноправности крестьян и их самоуправления» [цитата по: В.Н.Гинев, Земские начальники: объективная необходимость или реакционная контрреформа? //Петербургский исторический журнал, СПб, 2015].
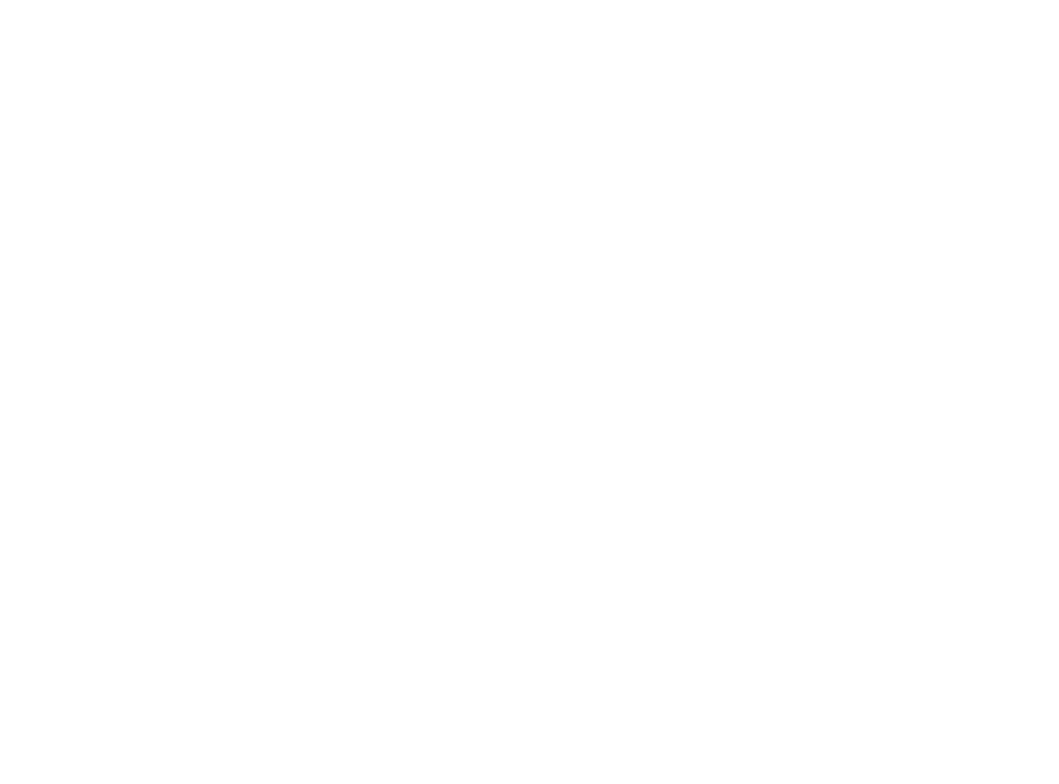
Крестьяне у земского начальника в городе Княгинино Нижегородской губернии,
Фотография М.П.Дмитриева, 1890-е гг.
Фотография М.П.Дмитриева, 1890-е гг.
Большинство членов Госсовета понимало, что общество развивается и этому развитию надо помогать, а не завинчивать гайки и удерживать все как было. Это - характерная черта времени: при Николае I Госсовет не решился бы на такие заявления, а при Александре III осмелился. Эпоха Великих реформ освободила всех, в том числе и Пазухина с его реакционными взглядами, освободила и либеральных дворян, — того же барона Николаи и многих других.
Негативное отношение к проекту закона о земских начальниках 18 участников совещания 17 декабря 1888 года было поддержано и в общем собрании Государственного Совета 16 января 1889 года, результаты голосования — 39 против законопроекта и только 13 — за. Среди меньшинства оказался и Константин Победоносцев. В итоге он изменил свою позицию под давлением Толстого, Пазухина, Каткова и самого Царя. Интересно, что еще недавно Победоносцев руководил Толстым, а теперь Толстой, чтобы избежать раскола в консервативном лагере, сам просит его поддержать закон, абсурдность и невыполнимость которого Победоносцев понимает.
Член Государственного совета, бывший министр финансов Александр Агеевич Абаза предложил передать функции земских начальников мировым судьям. Император счел это невозможным, а существование и мировых судей, и земских начальников слишком расходным. Царь решил вовсе упразднить институт мировых судей (как в проекте Пазухина — А.З.). Обязанности мировых судей передали земским начальникам, а по крупным делам — окружным судам.
Негативное отношение к проекту закона о земских начальниках 18 участников совещания 17 декабря 1888 года было поддержано и в общем собрании Государственного Совета 16 января 1889 года, результаты голосования — 39 против законопроекта и только 13 — за. Среди меньшинства оказался и Константин Победоносцев. В итоге он изменил свою позицию под давлением Толстого, Пазухина, Каткова и самого Царя. Интересно, что еще недавно Победоносцев руководил Толстым, а теперь Толстой, чтобы избежать раскола в консервативном лагере, сам просит его поддержать закон, абсурдность и невыполнимость которого Победоносцев понимает.
Член Государственного совета, бывший министр финансов Александр Агеевич Абаза предложил передать функции земских начальников мировым судьям. Император счел это невозможным, а существование и мировых судей, и земских начальников слишком расходным. Царь решил вовсе упразднить институт мировых судей (как в проекте Пазухина — А.З.). Обязанности мировых судей передали земским начальникам, а по крупным делам — окружным судам.
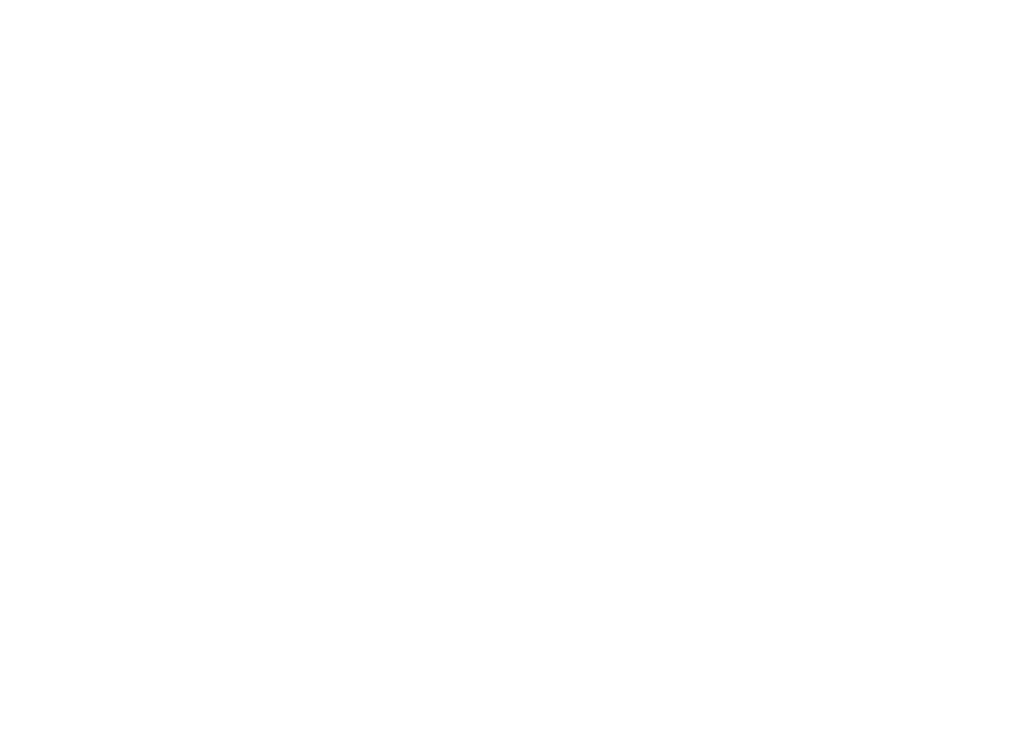
Волостной суд, художник Михаил Зощенко, 1888 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Вторая инстанция, куда могли жаловаться на земского начальника, — съезд земских начальников губернии. То есть жаловаться на дворянского предводителя можно тоже только дворянам. Понятно, что непредвзятый ответ от них получить было почти нереально.
Напомню, что мировые судьи появились в Российской Империи в 1864 году по закону о правовой реформе. Они избирались уездными земскими собраниями, а в Москве и Санкт-Петербурге — городскими думами. Мировые судьи избирались на три года и утверждались в должности первым департаментом Сената. Независимость мирового судьи от влияния администрации была обеспечена законом. Они, как и члены общих судов, не могли быть уволены иначе как по суду за преступление. Мировых судей называли «светлым пятном на фоне темноты и невежества русской провинции».
Абаза хотел, чтобы мировые судьи и стали де-факто земскими начальниками, но все вышло точно наоборот. Земские начальники по указанию Александра III стали мировыми судьями.
Напомню, что мировые судьи появились в Российской Империи в 1864 году по закону о правовой реформе. Они избирались уездными земскими собраниями, а в Москве и Санкт-Петербурге — городскими думами. Мировые судьи избирались на три года и утверждались в должности первым департаментом Сената. Независимость мирового судьи от влияния администрации была обеспечена законом. Они, как и члены общих судов, не могли быть уволены иначе как по суду за преступление. Мировых судей называли «светлым пятном на фоне темноты и невежества русской провинции».
Абаза хотел, чтобы мировые судьи и стали де-факто земскими начальниками, но все вышло точно наоборот. Земские начальники по указанию Александра III стали мировыми судьями.
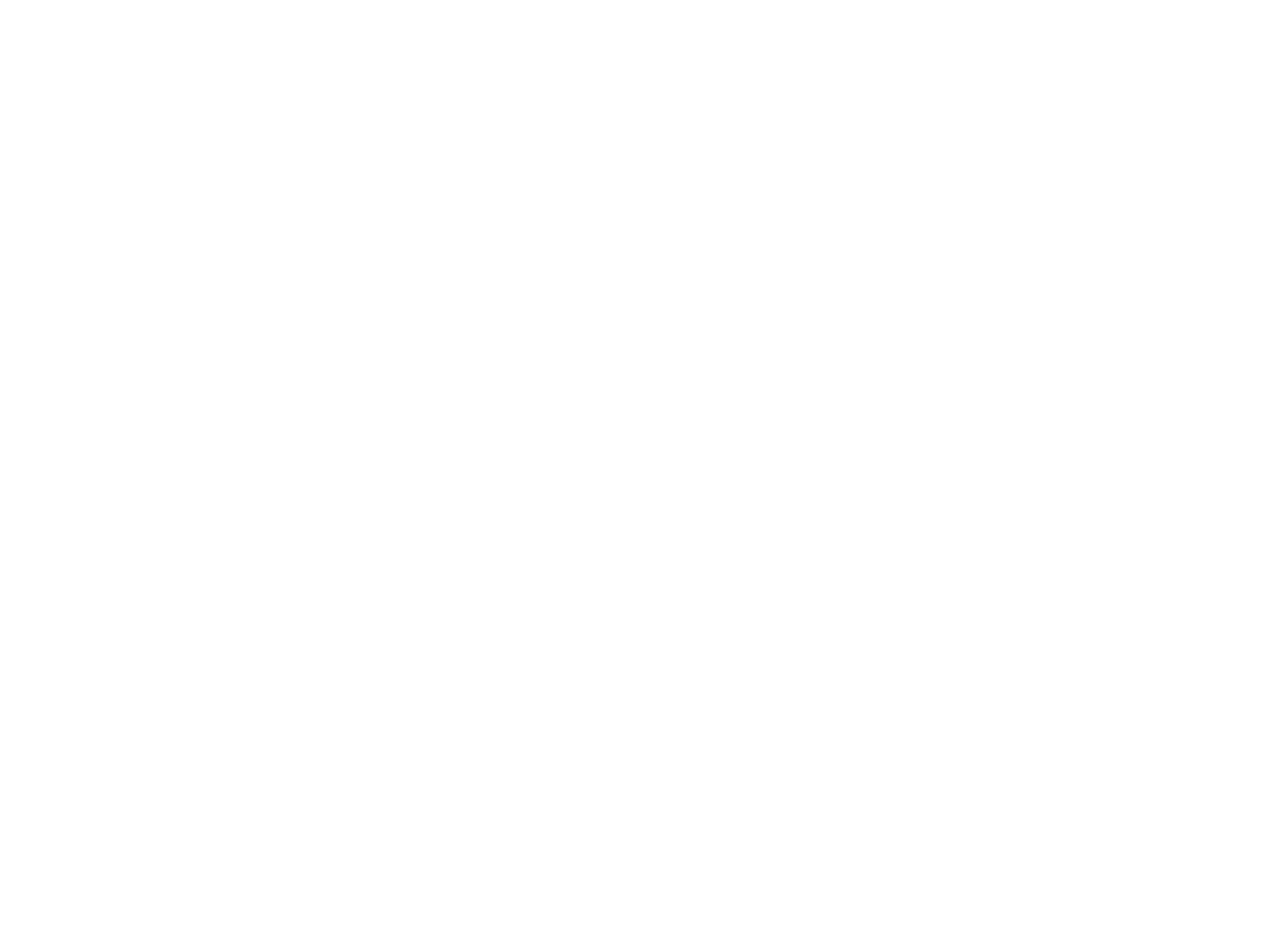
Должностной знак мирового судьи, 1864 г.
Среди соавторов и сторонников законопроекта были преемник Толстого на посту Министра внутренних дел — Иван Николаевич Дурново, Министр финансов профессор Иван Алексеевич Вышнеградский, Министр государственных имуществ Михаил Николаевич Островский. Они утверждали, что без постоянного дворянского попечения над крестьянским сельским и волостным самоуправлением порядка в деревне не будет.
Александр III утвердил мнение меньшинства Государственного Совета 29 января 1889 года и поддержал законопроект. Судьбоносное решение Императора во многом оказалось, как это ни странно, приговором его сыну Николаю II, который был убит в Екатеринбурге в июле 1918 года – не наученный правильному и ответственному самоуправлению русский народ легко поверил популистской лжи большевиков.
Александр III утвердил мнение меньшинства Государственного Совета 29 января 1889 года и поддержал законопроект. Судьбоносное решение Императора во многом оказалось, как это ни странно, приговором его сыну Николаю II, который был убит в Екатеринбурге в июле 1918 года – не наученный правильному и ответственному самоуправлению русский народ легко поверил популистской лжи большевиков.
Граф Толстой хотел и вовсе включить земство во властную вертикаль, то есть упразднить его независимость, чтобы представители земства стали чиновниками. Но Толстой умер в апреле 1889 году, и закон о земском самоуправлении дорабатывался уже без него.
Новым министром внутренних дел стал Иван Николаевич Дурново. Он возглавлял главное министерство Империи до 1895 года, а потом, до 1903 года возглавлял Комитет министров. Дурново происходил из дворян Калужской губернии, был черниговским предводителем дворянства. В 1870 году его назначили Екатеринославским губернатором, в 1889 году Товарищем министра внутренних дел.
Новым министром внутренних дел стал Иван Николаевич Дурново. Он возглавлял главное министерство Империи до 1895 года, а потом, до 1903 года возглавлял Комитет министров. Дурново происходил из дворян Калужской губернии, был черниговским предводителем дворянства. В 1870 году его назначили Екатеринославским губернатором, в 1889 году Товарищем министра внутренних дел.
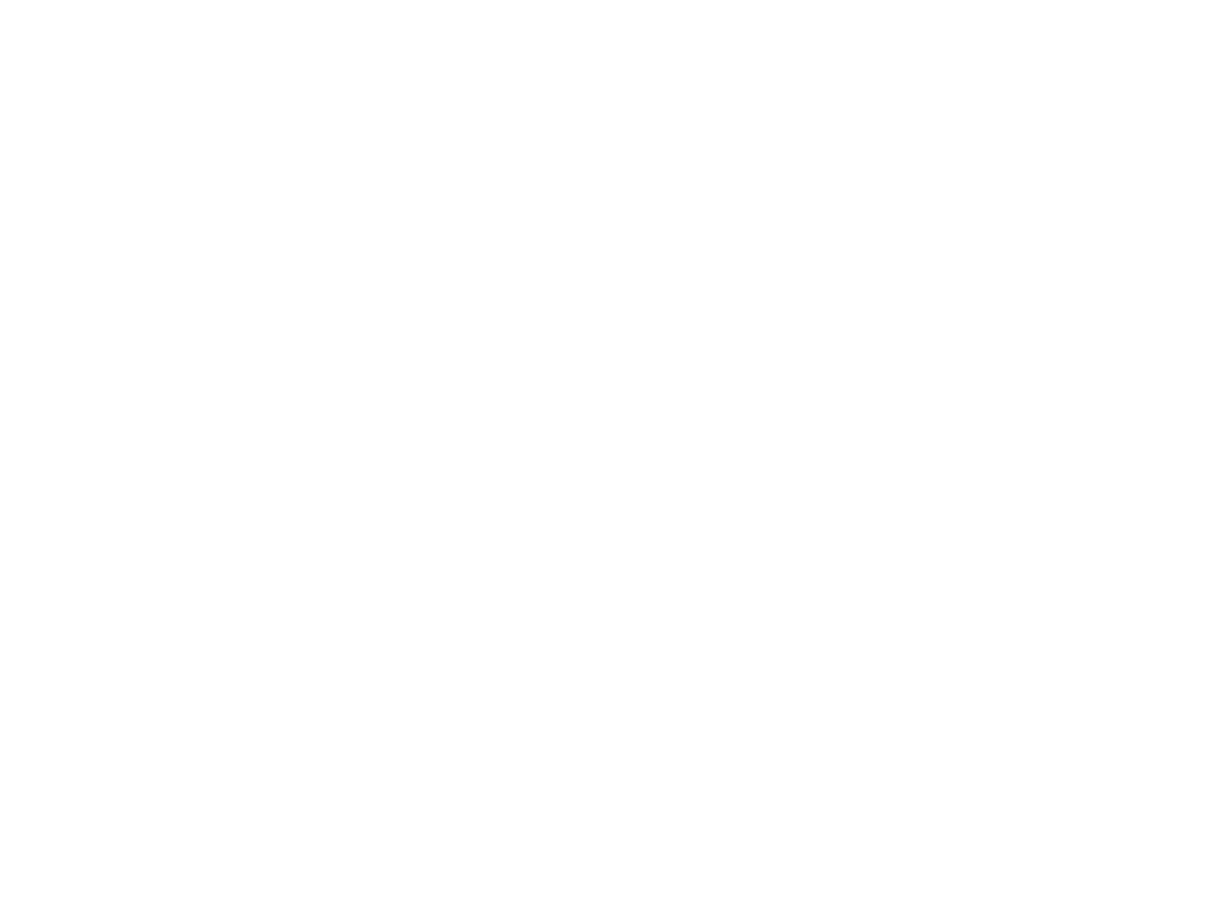
Иван Дурново, Фотография из книги Министерство внутренних дел. 1802-1902. Исторический очеркъ. — СПб: Тип. Министерства внутренних дел, 1901.
Об Иване Дурново ходили дурные слухи, якобы, будучи екатеринославским губернатором, он любил совращать молодых девушек – «Его превосходительство любил домашних птиц и брал под покровительство хорошеньких девиц». Глядя на этого благообразного человека с огромной раздвоенной бородой с трудом верится в их правдоподобность, но тем не менее.
Адвокат Анатолий Кони, который так хорошо говорил о Манассеине, о Дурново отзывался откровенно плохо. При встрече с императрицей Марией Федоровной он дал Дурново такую нелестную характеристику: «представительный выездной лакей, попавший в силу злосчастной судьбы в Министры внутренних дел и участвовавший вместе со всей бюрократией в умышленном держании народа в глубоком невежестве...» [А.Ф.Кони, Избранное, М; — Советская Россия, 1989]
Адвокат Анатолий Кони, который так хорошо говорил о Манассеине, о Дурново отзывался откровенно плохо. При встрече с императрицей Марией Федоровной он дал Дурново такую нелестную характеристику: «представительный выездной лакей, попавший в силу злосчастной судьбы в Министры внутренних дел и участвовавший вместе со всей бюрократией в умышленном держании народа в глубоком невежестве...» [А.Ф.Кони, Избранное, М; — Советская Россия, 1989]
Видимо, из-за своих дурных увлечений и в силу невысокого ума, Дурново не пользовался никакой популярностью в Петербурге, не имел сторонников. В отличие от Толстого ему не на кого было опереться. Поэтому, пользуясь тем, что Александр III увлекся другими делами, Государственный совет избавился от предложений Пазухина и Толстого, фактически ликвидирующих земство. Земство сохранилось, уцелел даже столь ненавистный Толстому и Пазухину суд присяжных.
Как пишет Мария Боровая «Огромным ударом для Пазухина стала смерть Каткова 20 июля 1887 года и последовавшая за ней 25 апреля 1889 года кончина Д. А. Толстого. Лишь позиция самого Императора позволила добиться принятия закона в редакции, учитывающей ряд первоначальных планов А. Д. Пазухина» [М.А.Боровая. А.Д. Пазухин. Общественно-политические взгляды и государственная деятельность, 2004, С.16].
Как пишет Мария Боровая «Огромным ударом для Пазухина стала смерть Каткова 20 июля 1887 года и последовавшая за ней 25 апреля 1889 года кончина Д. А. Толстого. Лишь позиция самого Императора позволила добиться принятия закона в редакции, учитывающей ряд первоначальных планов А. Д. Пазухина» [М.А.Боровая. А.Д. Пазухин. Общественно-политические взгляды и государственная деятельность, 2004, С.16].
Так описывает позицию Госсовета историк Александр Корнилов:
«Государственный Совет во многом изменил проект и то положение, которое вышло из Государственного Совета, не являлось в такой степени уничтожающим всякое самоуправление, как можно было ожидать, судя по первоначальному проекту Толстого» [А.А.Корнилов. Курс истории России XIX века. С.765-766].
«В итоге, закон от 12 июня 1890 года оказался гораздо ближе к земскому положению 1864 года, чем к проекту А.Д. Пазухина, — пишет Мария Боровая, — Вместе с тем, А.Д. Пазухину удалось отстоять важные с его точки зрения положения: закреплялся сословный характер формирования избирательных курий для избрания земских гласных, произошла замена выборности гласных от крестьян их назначением губернатором из числа избранных крестьянами, был усилен административный контроль над земством. Однако, как показали дальнейшие события, все эти нововведения не изменили оппозиционности и либеральной направленности большинства земств» [М.А.Боровая. А.Д. Пазухин. Общественно-политические взгляды и государственная деятельность, 2004, С.16].
«Государственный Совет во многом изменил проект и то положение, которое вышло из Государственного Совета, не являлось в такой степени уничтожающим всякое самоуправление, как можно было ожидать, судя по первоначальному проекту Толстого» [А.А.Корнилов. Курс истории России XIX века. С.765-766].
«В итоге, закон от 12 июня 1890 года оказался гораздо ближе к земскому положению 1864 года, чем к проекту А.Д. Пазухина, — пишет Мария Боровая, — Вместе с тем, А.Д. Пазухину удалось отстоять важные с его точки зрения положения: закреплялся сословный характер формирования избирательных курий для избрания земских гласных, произошла замена выборности гласных от крестьян их назначением губернатором из числа избранных крестьянами, был усилен административный контроль над земством. Однако, как показали дальнейшие события, все эти нововведения не изменили оппозиционности и либеральной направленности большинства земств» [М.А.Боровая. А.Д. Пазухин. Общественно-политические взгляды и государственная деятельность, 2004, С.16].
7. Искра революции
Анализ этого закона дает в работе 1906 года «Краткое пособие по русской истории» Василий Осипович Ключевский. Следует иметь ввиду, что Ключевский пишет в рамках российского имперского поля, поэтому его критика не абсолютна.: «Законом 12 июля 1889 г. учреждена должность земских начальников. Сельские и незначительные городские поселения уезда распределены на участки, из коих в каждом земский начальник, назначенный губернатором, по соглашению с губернским и подлежащим уездным предводителями дворянства, из местных дворян, имеющих установленный образовательный и имущественный или служебный ценз, ведет административные и судебные дела. Главная административная обязанность земского начальника – надзор за крестьянским общественным управлением. В судебных делах земские начальники заменили упраздненных тем же законом уездных мировых судей; только для наиболее важных дел учреждена должность уездного члена окружного суда, по одному на уезд. В городах (кроме обеих столиц и шести наиболее крупных городов, где сохранены мировые учреждения) для судебных дел, соответствующих компетенции земских начальников, учреждены назначаемые Министром юстиции городские судьи. Суд присяжных всё же уцелел… Высшую в губернии инстанцию для этих учреждений с правами надзора за их деятельностью составляет губернское присутствие под председательством губернатора из высших должностных лиц губернской администрации и суда с двумя непременными членами, назначаемыми губернатором из местного дворянства в порядке и на условиях назначения земских начальников» [В.О.Ключевский «Краткое пособие по Русской истории» М.1906, С.179.]
Анализ этого закона дает в работе 1906 года «Краткое пособие по русской истории» Василий Осипович Ключевский. Следует иметь ввиду, что Ключевский пишет в рамках российского имперского поля, поэтому его критика не абсолютна.: «Законом 12 июля 1889 г. учреждена должность земских начальников. Сельские и незначительные городские поселения уезда распределены на участки, из коих в каждом земский начальник, назначенный губернатором, по соглашению с губернским и подлежащим уездным предводителями дворянства, из местных дворян, имеющих установленный образовательный и имущественный или служебный ценз, ведет административные и судебные дела. Главная административная обязанность земского начальника – надзор за крестьянским общественным управлением. В судебных делах земские начальники заменили упраздненных тем же законом уездных мировых судей; только для наиболее важных дел учреждена должность уездного члена окружного суда, по одному на уезд. В городах (кроме обеих столиц и шести наиболее крупных городов, где сохранены мировые учреждения) для судебных дел, соответствующих компетенции земских начальников, учреждены назначаемые Министром юстиции городские судьи. Суд присяжных всё же уцелел… Высшую в губернии инстанцию для этих учреждений с правами надзора за их деятельностью составляет губернское присутствие под председательством губернатора из высших должностных лиц губернской администрации и суда с двумя непременными членами, назначаемыми губернатором из местного дворянства в порядке и на условиях назначения земских начальников» [В.О.Ключевский «Краткое пособие по Русской истории» М.1906, С.179.]
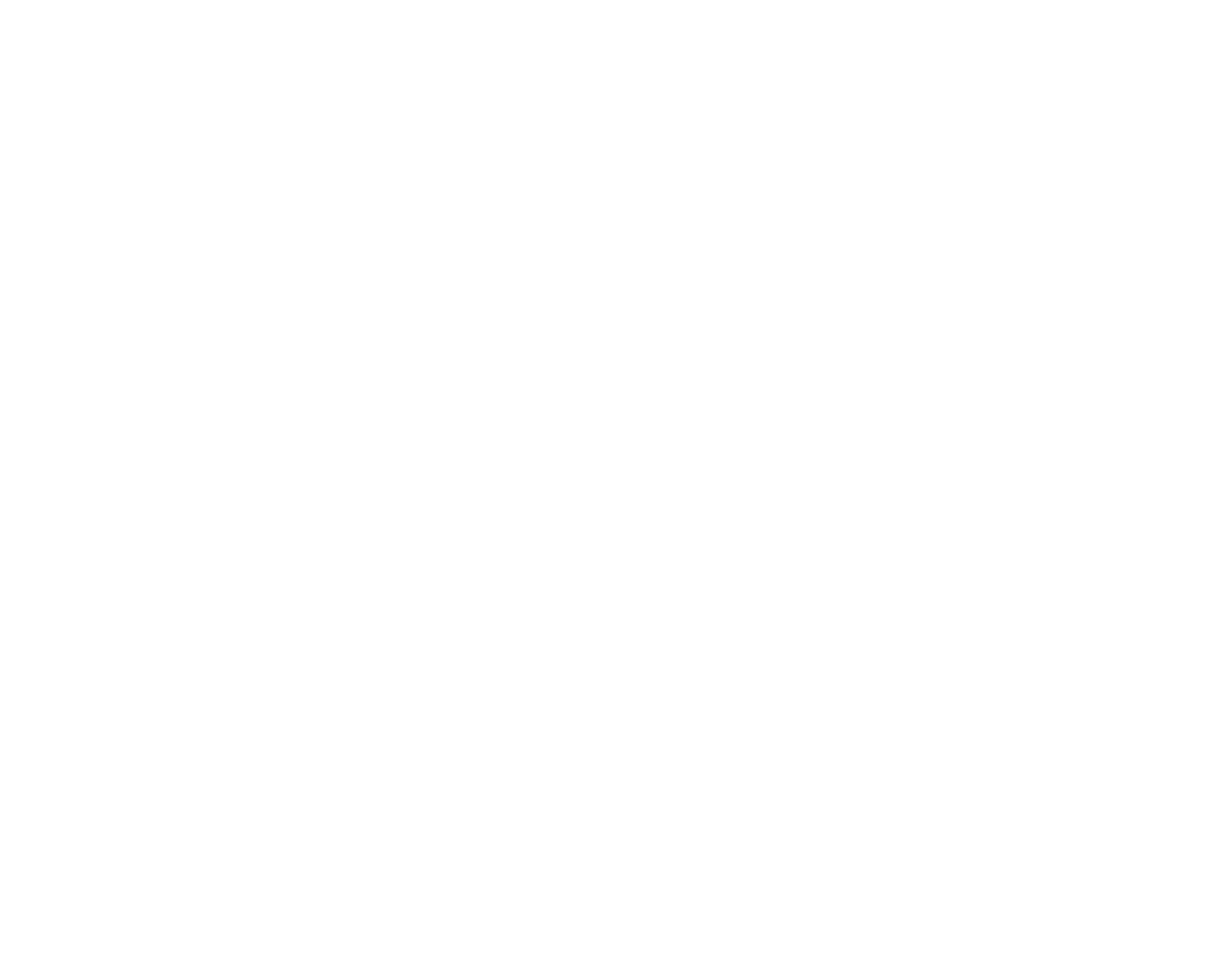
Василий Ключевский, гравюра В.В.Матэ, 1911 г.
Вместо земской пирамиды эпохи Великих реформ власти создали административную пирамиду, в которую губернатором назначались непременными членами представители местного дворянства.
Структура выборов изменилась. Из сословий на них могли избираться только представители дворянства и крестьяне. За дворянами закреплялось 57% мест во всех земских учреждениях. Крестьяне лишились права выбирать волостных начальников, (тех самых, которые недавно слушали наставления Александра III — А.З.). Они могли выбирать только кандидатов, а уже из этих кандидатов от крестьян губернатор назначал членов земства
Не вся, но значительная степень самоуправления была потеряна. В законе говорилось: «Губернатор останавливает исполнение постановления земского собрания в тех случаях, когда усмотрит, что оно не согласно с законом … или не соответствует общим государственным пользам, либо явно нарушает интересы местного населения» [Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3. Т. 10. Отделение 1. № 6927, С.505-506]. То есть не местное население решает, что ему интересно, а что нет, а губернатор. Самоуправление фактически становится из местной власти совещательным органом при губернаторе.
Решение о назначении членов земства от крестьян было отменено только законом 5 октября 1906 года.
Структура выборов изменилась. Из сословий на них могли избираться только представители дворянства и крестьяне. За дворянами закреплялось 57% мест во всех земских учреждениях. Крестьяне лишились права выбирать волостных начальников, (тех самых, которые недавно слушали наставления Александра III — А.З.). Они могли выбирать только кандидатов, а уже из этих кандидатов от крестьян губернатор назначал членов земства
Не вся, но значительная степень самоуправления была потеряна. В законе говорилось: «Губернатор останавливает исполнение постановления земского собрания в тех случаях, когда усмотрит, что оно не согласно с законом … или не соответствует общим государственным пользам, либо явно нарушает интересы местного населения» [Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3. Т. 10. Отделение 1. № 6927, С.505-506]. То есть не местное население решает, что ему интересно, а что нет, а губернатор. Самоуправление фактически становится из местной власти совещательным органом при губернаторе.
Решение о назначении членов земства от крестьян было отменено только законом 5 октября 1906 года.
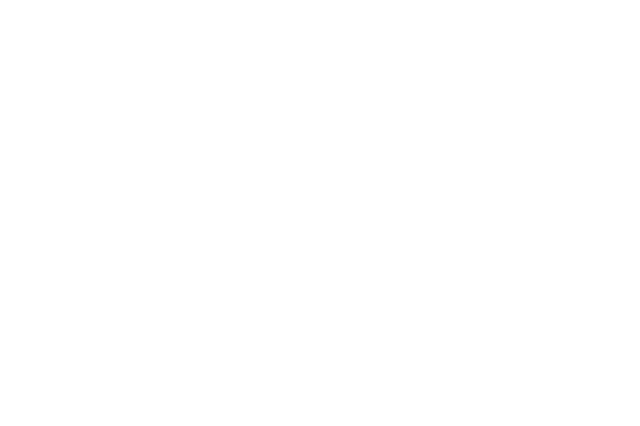
Земские начальники Нижегородской губернии, кон.XIX в.
Американский ученый Эдвард Таден пишет: «Есть много правды в общем мнении, что закон о земских начальниках 1889 г. и последующий за ним закон о земствах 1890 г. были реакционными установлениями, направленными на восстановление патриархальной власти дворян-землевладельцев и замещение земского самоуправления на более эффективный государственный контроль… Но реакционный характер института земских начальников не следует преувеличивать. Они также обеспечивали интересы крестьян, создавая крепкую и близкую к народу власть» [Edward С. Thaden. Russia since 1801. The Making of a New Society, Wiley-Interscience, 1971, P.306].
Мнение американского исследователя опровергается современными российскими учеными. Например, Наталья Анатольевна Бузанова в своей работе «Земские начальники Тамбовской губернии» пишет: «Даже явно неправомерные действия земских начальников, как правило, получали поддержку контрольных органов — уездных съездов, состоявших из них же… Губернаторские ревизии были редки и также «оставались без серьезных последствий…, даже если обнаруживались злоупотребления. Во всех местных инстанциях земские начальники, пользуясь связями, находили поддержку. Это делало их власть не только всеобъемлющей, но и бесконтрольной» [Наталия Анатольевна Бузанова. Земские начальники Тамбовской губернии: Автореф. канд. ист. наук. Гл. 2: Земские начальники как объект контроля, Тамбов, 2005]
Свою важную работу профессор Владимир Николаевич Гинев аккуратно назвал: «Земские начальники: объективная необходимость или реакционная контрреформа?» Совершенно очевидно, что реакционная. Реформа земства была нужна для того, чтобы помочь крестьянскому самоуправлению встать на ноги, а не ликвидировать его, помочь мировым судьям, а не ликвидировать этот институт.
Мнение американского исследователя опровергается современными российскими учеными. Например, Наталья Анатольевна Бузанова в своей работе «Земские начальники Тамбовской губернии» пишет: «Даже явно неправомерные действия земских начальников, как правило, получали поддержку контрольных органов — уездных съездов, состоявших из них же… Губернаторские ревизии были редки и также «оставались без серьезных последствий…, даже если обнаруживались злоупотребления. Во всех местных инстанциях земские начальники, пользуясь связями, находили поддержку. Это делало их власть не только всеобъемлющей, но и бесконтрольной» [Наталия Анатольевна Бузанова. Земские начальники Тамбовской губернии: Автореф. канд. ист. наук. Гл. 2: Земские начальники как объект контроля, Тамбов, 2005]
Свою важную работу профессор Владимир Николаевич Гинев аккуратно назвал: «Земские начальники: объективная необходимость или реакционная контрреформа?» Совершенно очевидно, что реакционная. Реформа земства была нужна для того, чтобы помочь крестьянскому самоуправлению встать на ноги, а не ликвидировать его, помочь мировым судьям, а не ликвидировать этот институт.
Результат земской контрреформы оказался печален. Русская система самоуправления эпохи Великих реформ (она, кстати, формально воспроизведена и в нынешней российской конституции) подразумевала, что местное самоуправление отделено и совершенно независимо от Министерства внутренних дел и составляет ему конкуренцию. Во-многом благодаря этому удалось победить коррупцию в русской деревне, — земства и МВД приглядывали друг за другом. При Александре III земство встроили в систему Министерства внутренних дел на прусский манер, но в отличии от Пруссии российское местное самоуправление не было полноправным.
Позже в этом же духе был принят еще целый ряд законов. Раздел крестьянских наделов был затруднен законом от 18 марта 1886 года, в 1893 году учрежден общинный земельный передел раз в 12 лет. Закон о найме на сельскохозяйственные работы отредактировали в интересах помещиков.
Позже в этом же духе был принят еще целый ряд законов. Раздел крестьянских наделов был затруднен законом от 18 марта 1886 года, в 1893 году учрежден общинный земельный передел раз в 12 лет. Закон о найме на сельскохозяйственные работы отредактировали в интересах помещиков.
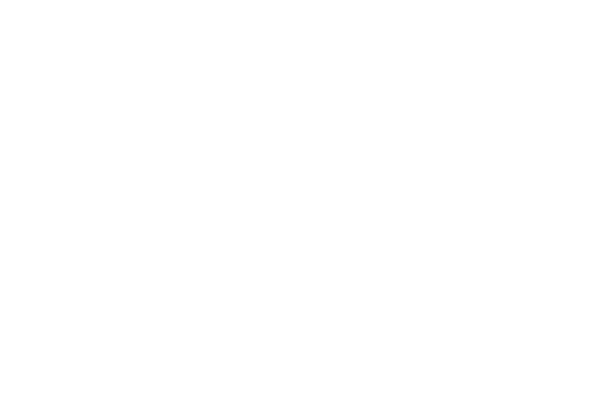
Сельский сход, Бугурусланский уезд Самарской губернии, начало XX в.
Важно отметить, что законом об общинном переделе власти стремились законсервировать общинное землевладение. Он, собственно, и стал формальной причиной Первой Русской революции: она как раз произошла через 12 лет после принятия закона, когда солдаты вернулись в деревни с проигранной Японской войны. Вторая Революция — 1917 года - вновь произошла через 12 лет, во время передела общинных владений. Крестьяне побежали с фронта домой, чтобы участвовать в этом переделе, отхватить лучшие куски земли в своей деревне. Этот реакционный закон привел совсем не к тому результату, какой предполагался.
Закон о земствах приблизил революцию потому что крестьяне не ощущали себя полноправными хозяевами сельской жизни. Они почувствовали себя вновь отданными под контроль дворян и земских начальников, которые судили по своей власти, — произвольно. Институт земских начальников существовал до 1917 года и был отменен только Февральской революцией. Поэтому раскол между дворянами и крестьянами не уменьшался, что было бы неизбежно при общесословном земстве, а наоборот, усилился и вызвал ту невероятную ненависть крестьян к дворянам, которая и привела к практически полному их истреблению и изгнанию из России в огне Гражданской войны 1917–1922 годов.
Закон о земствах приблизил революцию потому что крестьяне не ощущали себя полноправными хозяевами сельской жизни. Они почувствовали себя вновь отданными под контроль дворян и земских начальников, которые судили по своей власти, — произвольно. Институт земских начальников существовал до 1917 года и был отменен только Февральской революцией. Поэтому раскол между дворянами и крестьянами не уменьшался, что было бы неизбежно при общесословном земстве, а наоборот, усилился и вызвал ту невероятную ненависть крестьян к дворянам, которая и привела к практически полному их истреблению и изгнанию из России в огне Гражданской войны 1917–1922 годов.
8. Оскудение дворянства
Для императорской власти закон не дал ровным счетом ничего. В 1861 году среди дворян было около 80% землевладельцев, в 1895 году их оставалось около 55%, а в 1917 — 37%.
В 1862 году в 45 губерниях Европейской России дворянам принадлежало 87 млн. 181 тыс. десятин сельскохозяйственных угодий. Десять лет спустя площадь дворянского землевладения уменьшилась до 80 млн. 729 тыс. десятин. В 1882 году оно сузилось уже до 71 млн. 233 тыс. десятин, в 1892 году — до 62 млн. 917 тыс. десятин, к концу 1902 г. - до 53 млн. 152 тыс. десятин. Наконец, в 1907 году в руках дворян оставалось всего 47 млн. 925 тыс. десятин, — немногим больше половины площади, которой они владели после освобождению крестьян. Закон уберечь дворянское землевладение не смог.
Для императорской власти закон не дал ровным счетом ничего. В 1861 году среди дворян было около 80% землевладельцев, в 1895 году их оставалось около 55%, а в 1917 — 37%.
В 1862 году в 45 губерниях Европейской России дворянам принадлежало 87 млн. 181 тыс. десятин сельскохозяйственных угодий. Десять лет спустя площадь дворянского землевладения уменьшилась до 80 млн. 729 тыс. десятин. В 1882 году оно сузилось уже до 71 млн. 233 тыс. десятин, в 1892 году — до 62 млн. 917 тыс. десятин, к концу 1902 г. - до 53 млн. 152 тыс. десятин. Наконец, в 1907 году в руках дворян оставалось всего 47 млн. 925 тыс. десятин, — немногим больше половины площади, которой они владели после освобождению крестьян. Закон уберечь дворянское землевладение не смог.
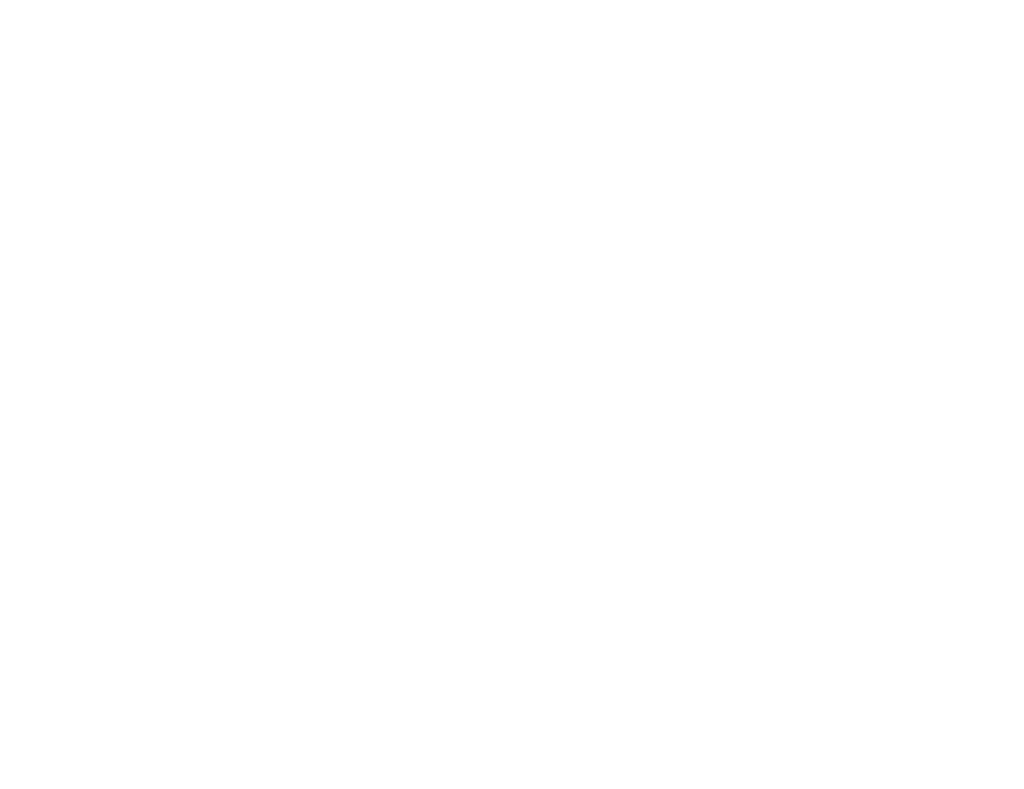
Все в прошлом. Художник Василий Максимов, Государственная Третьяковская галерея, Москва
Доля утраты земель помещиками возрастало ежегодно. Если в 1863–1872 гг. помещики теряли 0,7% своих земель, то в 1903–1907 годах уже 1,9% в год. Помещичью землю в основном покупали крестьяне, а не купцы. Купеческое промышленное землевладение сохранялось приблизительно на одном уровне, а к 1907 году его доля тоже сокращается. Ежегодная убыль помещичьей земли приближалась к миллиону — 939 тысяч десятин. Дворянский земельный банк выдал в 1913 году ссуд на землю на 884 млн рублей, — это уже чисто дворянский долг [Л. Н. Юровский.«Оскудевающеедворянство» //«РусскиеВедомости», 7 декабря 1913 года, № 282].
Куда же девали деньги помещики? В основном они тратили их на приятную жизнь. Небольшая часть дворян уезжала жить за границу. В 1897 году вышла брошюра «Современные дворянские вопросы», подписанная именем «Штиглиц». Автор, опираясь на статистику, говорил, что «русских проживает приблизительно за границею, в главнейших странах Европы, следующее число лиц: в Германии до 53 000, в Австро-Венгрии до 22 000, во Франции – 14 357, в Великобритании – 47 500, в Италии – 1387, всего около 138 000 душ, из коих треть непременно дворян, т. е. 46 000 душ»[ А.Штиглиц. Современные дворянские вопросы. СПб., 1897. С.15-16].
Куда же девали деньги помещики? В основном они тратили их на приятную жизнь. Небольшая часть дворян уезжала жить за границу. В 1897 году вышла брошюра «Современные дворянские вопросы», подписанная именем «Штиглиц». Автор, опираясь на статистику, говорил, что «русских проживает приблизительно за границею, в главнейших странах Европы, следующее число лиц: в Германии до 53 000, в Австро-Венгрии до 22 000, во Франции – 14 357, в Великобритании – 47 500, в Италии – 1387, всего около 138 000 душ, из коих треть непременно дворян, т. е. 46 000 душ»[ А.Штиглиц. Современные дворянские вопросы. СПб., 1897. С.15-16].
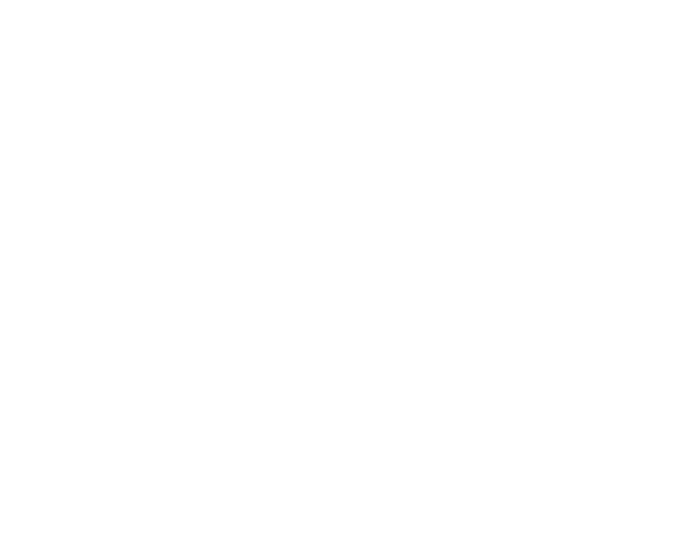
Молотьба в имении князя Ю.Кенига, Фото Я.В. Штейнберга. ЦГАКФФД, Петербург
За границей дворяне проматывали деньги и праздно проводили время. Вспомним Бунина, не в его ностальгических эмигрантских рассказах, а в написанных до 1917 года, — мы видим явную деградацию дворянства. Закон Толстого-Пазухина не мог предотвратить неизбежного. Основными собственниками земли становились крестьяне, и к 1907 году они владели уже почти миллионом — 998 тысяч десятин. К 1917 году у крестьян было уже 87% сельскохозяйственной земли в Европейской России и 100% земли в Сибири, 95% сельскохозяйственного скота: коров, свиней, овец и лошадей.
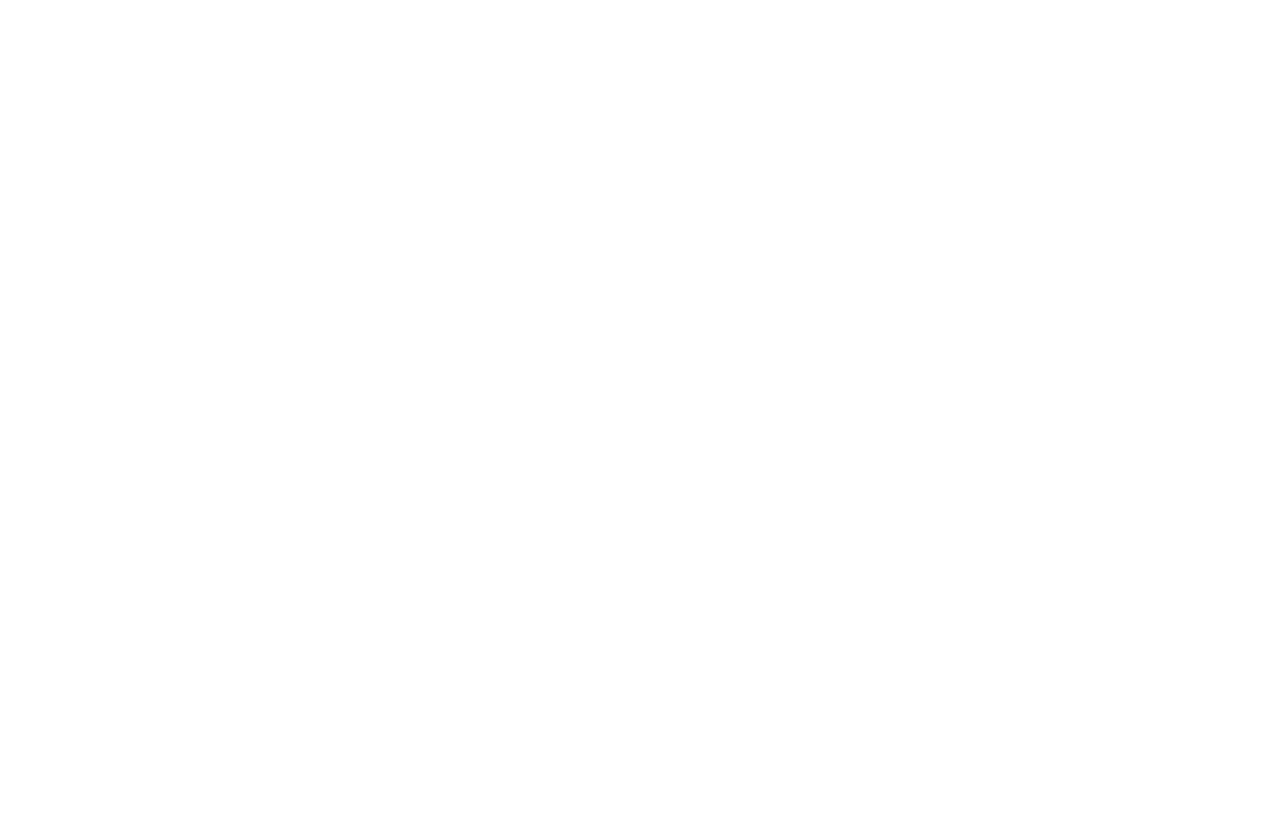
Покинутая усадьба, Художник Владимир Соколов, 1900-е гг.,
Иркутский областной художественный музей им. В.П.Сукачева
Иркутский областной художественный музей им. В.П.Сукачева
Можно сделать вывод, что административные контрреформы не привели ни к одному положительному, с точки зрения власти, результату. Они не обеспечили ни стабильности дворянского землевладения, ни власти дворянского сословия над крестьянами. Но закон сделал другое, — страшное дело. Он вновь разбередил медленно затягивающуюся рану отношений между помещиками и крестьянами. Толстому, Пазухину, императору Александру III мы, далекие их потомки, должны вменить в вину то, что они своей реакционной глупостью создали тот антагонизм сословий, который привел к одной за другой двум революциям (совсем не «интеллигенты» и «либералы» это сделали), и, в конечном счете, к установлению большевицкой мафиозной власти в России. Вот реальный результат реакционной политики.