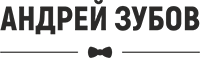КУРС История России. XIX век
Лекция 77
«Раскольники» и «сектанты»
в Эпоху контрреформ
«Раскольники» и «сектанты»
в Эпоху контрреформ
- Содержание
- 1. Вычеркнутые из общества
- 2. Юридическое положение старообрядцев
- 3. Белокриницкое согласие
- 4. Смягчение отношения к «раскольникам»
- 5. Закон 1883 года
- 6. Разложение Церкви
- 7. Движение Евангелистов. Штунда
- 8. Секта аристократов
- 9. Гонения на Евангелистов
- 10. Толстовство
- 11. Церковь опоздала
видеозапись лекции
содержание
- Вычеркнутые из общества
- Юридическое положение старообрядцев
- Белокриницкое согласие
- Смягчение отношения к «раскольникам»
- Закон 1883 года
- Разложение Церкви
- Движение Евангелистов. Штунда
- Секта аристократов
- Гонения на Евангелистов
- Толстовство
- Церковь опоздала
рекомендованная литература
1. П.А.Валуев. Всеподданейшая докладная записка Государю Императору о пересмотре законодательства о раскольниках. 4 октября 1863 г. Текст см. - В.В.Болотов. Двадцать лет законодательных реформ по расколу. // Христианское чтение. 1886. №3-4. – С.465-490.
2. П.А.Валуев. Дневник министра внутренних дел, М; Акад. наук СССР, Т.1-2, 1961
3. В.В.Болотов. Двадцать лет законодательных реформ по расколу. Христианское чтение. 1886. №3-4
4. А.С.Палкин. Проект пересмотра законодательства о старообрядцах, составленный П.А.Валуевым в 1863 году, Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. Вып.4 (20). 2017.
5. П.И.Мельников (Андрей Печерский). Письма о Расколе // Собр.соч. в 8-ми томах. Том 8. М.: Правда, 1976.
6. П.И.Мельников (Андрей Печерский). В лесах // Собр.соч. в 8-ми томах. Тома 2-4. М.: Правда, 1976.
7. П.И.Мельников (Андрей Печерский). На горах // Собр.соч. в 8-ми томах. Тома 5-7. М.: Правда, 1976.
8. И.И.Каблиц. «Русские диссиденты. Староверы и духовные христиане», СПб: Типография А.М.Катомина, 1881
9. Законы о раскольниках и сектантах: с разъяснениями Правительствующего Синода и Правительствующего Сената, М. : А.Ф. Скоров, 1903
10. А.С.Пругавин. Раскол внизу и раскол вверху. Очерки современного сектантства. — М.: «Ча-ща», 2019
11. А.С. Пругавин. Неприемлющие мира. Очерки религиозных исканий. – М., 1918
12. В.Б.Лебедев. Религиозные преступления в законодательстве Российской империи в XVIII – начале XX вв.: монография. Псков: Псковский юридический ин-т ФСИН России, 2007.
13. О.П. Ершова. Старообрядчество и власть. – М. : Уникум-Центр, 1999.
14. Архиеп. Агафангел (Соловьев). Пленение Русской Церкви: Записка преосвященного Агафангела Волынского и проект всеподданнейшего ходатайства перед Государем Императором. – СПб., 1906.
15. В.Ф.Миловидов. Белокриницкая иерархия // Религии народов современной России: Словарь; М, Республика, 2002.
16. Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. М.: Отчий дом, 2016
17. Е.Н.Тарновский, Религиозные преступления в России, «Вестник права», 1899, №4.
18. А.А. Корнилов. Курс истории России XIX века, — М.: Эксмо, 2019
19. Н. И. Биюшкина, Законодательные меры правительства Российской империи в отношении религиозных сект (март 1881-1894 гг.), Сочи: ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный университет», 2011. — Т. 1(15) https://vestnik.sutr.ru/journals_n/1318692831.pdf
20. В.А.Бачинин. Лорд Г. Редсток и генеральша Е. И. Черткова. Истоки евангельского пробуждения в аристократическом Петербурге. // Христианская мысль: социология, политическая теология, культурология. — СПб.: Новое и старое, 2004.
21. С.П. Ливен. «Духовное пробуждение в Петербурге», биографическая повесть. – Киев: Свет на Востоке, 2016.
22. Н.С.Лесков. Великосветский раскол: Лорд Редсток, его учение и проповедь. М.: Университетская типография, 1877.
23. Ф.М.Достоевский, Дневник писателя за 1876 год, СПб, Типография Ю.Штарфа (И.Фишона), 1879.
24. Л.Н.Толстой. Крейцерова соната, М; Азбука; 2022
25. Л.Н.Толстой, Воскресение, М; Азбука; 2024.
26. Письма Победоносцева к Александру III. — М; Центрархив, 1925, Т.1-2.
27. архиеп. Иоанн (Шаховской), К истории русской интеллигенции. -Нью-Йорк, 1975.
28. Peter T. De Simone. The Old Believers in Imperial Russia: Oppression, Opportunism and Religious Identity in Tsarist Moscow. L.-N.Y. : I.B.Tauris, 2018.
29. David G. Fountain. Lord Radstock and the Russian Awakening. — Southampton: Mayflower Christian. L.: Revival Literature, 1988.
2. П.А.Валуев. Дневник министра внутренних дел, М; Акад. наук СССР, Т.1-2, 1961
3. В.В.Болотов. Двадцать лет законодательных реформ по расколу. Христианское чтение. 1886. №3-4
4. А.С.Палкин. Проект пересмотра законодательства о старообрядцах, составленный П.А.Валуевым в 1863 году, Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. Вып.4 (20). 2017.
5. П.И.Мельников (Андрей Печерский). Письма о Расколе // Собр.соч. в 8-ми томах. Том 8. М.: Правда, 1976.
6. П.И.Мельников (Андрей Печерский). В лесах // Собр.соч. в 8-ми томах. Тома 2-4. М.: Правда, 1976.
7. П.И.Мельников (Андрей Печерский). На горах // Собр.соч. в 8-ми томах. Тома 5-7. М.: Правда, 1976.
8. И.И.Каблиц. «Русские диссиденты. Староверы и духовные христиане», СПб: Типография А.М.Катомина, 1881
9. Законы о раскольниках и сектантах: с разъяснениями Правительствующего Синода и Правительствующего Сената, М. : А.Ф. Скоров, 1903
10. А.С.Пругавин. Раскол внизу и раскол вверху. Очерки современного сектантства. — М.: «Ча-ща», 2019
11. А.С. Пругавин. Неприемлющие мира. Очерки религиозных исканий. – М., 1918
12. В.Б.Лебедев. Религиозные преступления в законодательстве Российской империи в XVIII – начале XX вв.: монография. Псков: Псковский юридический ин-т ФСИН России, 2007.
13. О.П. Ершова. Старообрядчество и власть. – М. : Уникум-Центр, 1999.
14. Архиеп. Агафангел (Соловьев). Пленение Русской Церкви: Записка преосвященного Агафангела Волынского и проект всеподданнейшего ходатайства перед Государем Императором. – СПб., 1906.
15. В.Ф.Миловидов. Белокриницкая иерархия // Религии народов современной России: Словарь; М, Республика, 2002.
16. Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. М.: Отчий дом, 2016
17. Е.Н.Тарновский, Религиозные преступления в России, «Вестник права», 1899, №4.
18. А.А. Корнилов. Курс истории России XIX века, — М.: Эксмо, 2019
19. Н. И. Биюшкина, Законодательные меры правительства Российской империи в отношении религиозных сект (март 1881-1894 гг.), Сочи: ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный университет», 2011. — Т. 1(15) https://vestnik.sutr.ru/journals_n/1318692831.pdf
20. В.А.Бачинин. Лорд Г. Редсток и генеральша Е. И. Черткова. Истоки евангельского пробуждения в аристократическом Петербурге. // Христианская мысль: социология, политическая теология, культурология. — СПб.: Новое и старое, 2004.
21. С.П. Ливен. «Духовное пробуждение в Петербурге», биографическая повесть. – Киев: Свет на Востоке, 2016.
22. Н.С.Лесков. Великосветский раскол: Лорд Редсток, его учение и проповедь. М.: Университетская типография, 1877.
23. Ф.М.Достоевский, Дневник писателя за 1876 год, СПб, Типография Ю.Штарфа (И.Фишона), 1879.
24. Л.Н.Толстой. Крейцерова соната, М; Азбука; 2022
25. Л.Н.Толстой, Воскресение, М; Азбука; 2024.
26. Письма Победоносцева к Александру III. — М; Центрархив, 1925, Т.1-2.
27. архиеп. Иоанн (Шаховской), К истории русской интеллигенции. -Нью-Йорк, 1975.
28. Peter T. De Simone. The Old Believers in Imperial Russia: Oppression, Opportunism and Religious Identity in Tsarist Moscow. L.-N.Y. : I.B.Tauris, 2018.
29. David G. Fountain. Lord Radstock and the Russian Awakening. — Southampton: Mayflower Christian. L.: Revival Literature, 1988.
текст лекции
1. Вычеркнутые из общества
Тема этой лекции на первый взгляд узкая, но очень важная для России — это проблема раскола и сектантства в русском обществе. К этой теме я обращался коротко в цикле лекций об эпохе Великих реформ. Здесь я рассматриваю подробнее историю этого вопроса как в эпоху Александра II, так и во время правления Александра III. На самом деле, конечно, ни так называемые раскольники, ни сектанты таковыми себя не считали. Так их именовала государственная Церковь и официальные власти Империи. Поэтому в названии лекции я поставили эти термины в кавычки. В тексте лекции кавычек, для легкости восприятия, не будет, но они должны подразумеваться всеми читателями.
Тема этой лекции на первый взгляд узкая, но очень важная для России — это проблема раскола и сектантства в русском обществе. К этой теме я обращался коротко в цикле лекций об эпохе Великих реформ. Здесь я рассматриваю подробнее историю этого вопроса как в эпоху Александра II, так и во время правления Александра III. На самом деле, конечно, ни так называемые раскольники, ни сектанты таковыми себя не считали. Так их именовала государственная Церковь и официальные власти Империи. Поэтому в названии лекции я поставили эти термины в кавычки. В тексте лекции кавычек, для легкости восприятия, не будет, но они должны подразумеваться всеми читателями.
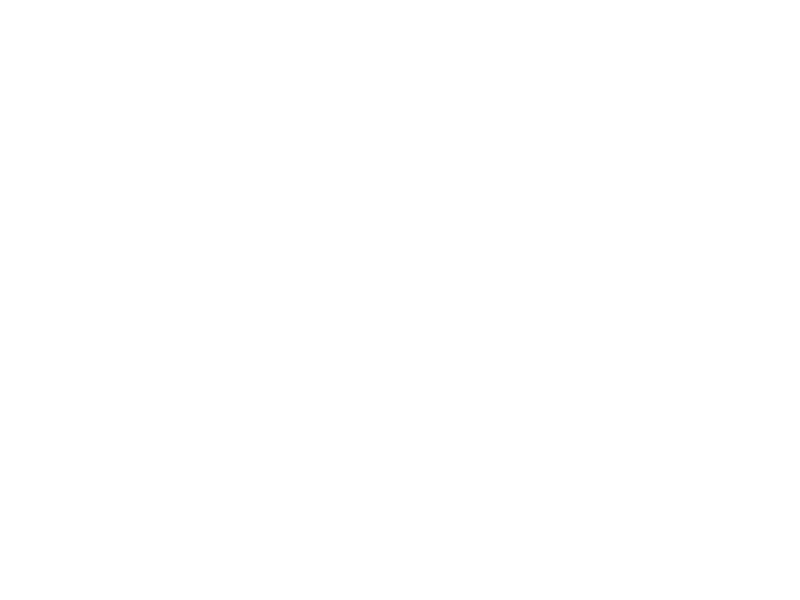
Петр Валуев, СПб. : тип. и лит. А. Мюнстера, 1860-е гг.
Мы слабо отдаем себе отчет в том, чем было сектантство для старой России. Министр Внутренних дел Петр Александрович Валуев в 1863 году подготовил для Александра II записку о проблеме сект и раскольников. Он писал Императору: «В настоящее время официальная цифра раскольников простирается до 875 тысяч, но известно, что покойный преосвященный Иннокентий (речь идет о Иннокентии (Вениаминове), митрополите Московском (1797-1879) — А.З.) предполагал настоящую цифру до 11 мил., а по исследованиям Центрального статистического комитета Министерства Внутренних дел она составляет около 8 ½ мил., то есть 1/10 всего наличного населения Империи, или 1/6 всего православного населения. Таким образом, более 8 миллионов верноподданных Вашего Императорского Величества не имеют в настоящее время не только свободы религиозных верований, но и общих гражданских прав по имуществу, происхождению и участию в делах общественных» (Текст записки: В.В.Болотов. Двадцать лет законодательных реформ по расколу // Христианское чтение. 1886. №3-4. – С.465-490) См. также А.С.Палкин. Проект пересмотра законодательства о старообрядцах, составленный П.А.Валуевым в 1863 году // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. Вып.4 (20). 2017. – С. 1-14.
Раскольники, старообрядцы и сектанты составляли самую большую общность в Российской Империи, большую, чем многие национальные общности — грузины, армяне, немцы. По данным переписи 1897 года, численность старообрядцев в Российской империи в 1897 году составляла 3,6 млн. человек, а сектантов — около 2 млн.
Раскольники, старообрядцы и сектанты составляли самую большую общность в Российской Империи, большую, чем многие национальные общности — грузины, армяне, немцы. По данным переписи 1897 года, численность старообрядцев в Российской империи в 1897 году составляла 3,6 млн. человек, а сектантов — около 2 млн.
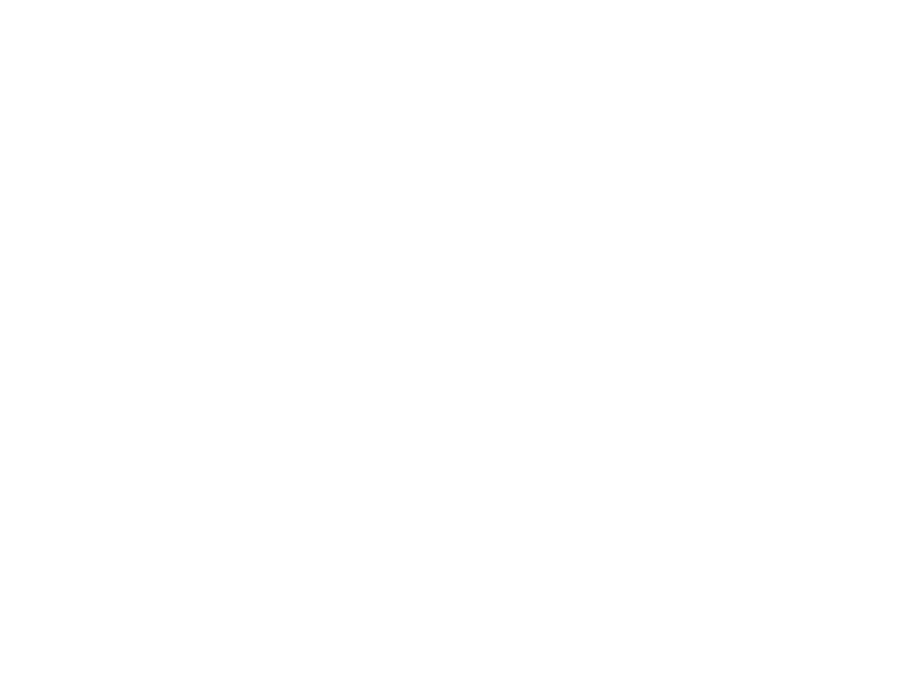
Иосиф Иванович Юзов (Коблиц), фото из Большой Российской энциклопедии
Иосиф Иванович Юзов - настоящая фамилия Каблиц, — лютеранин, дворянин Ковенской губернии, революционер-народник, оценивал количество старообрядцев в России в 11 млн. человек, а сектантов — в 2-3 млн [«Русские диссиденты. Староверы и духовные христиане», СПб: Типография А.М.Катомина,1881].
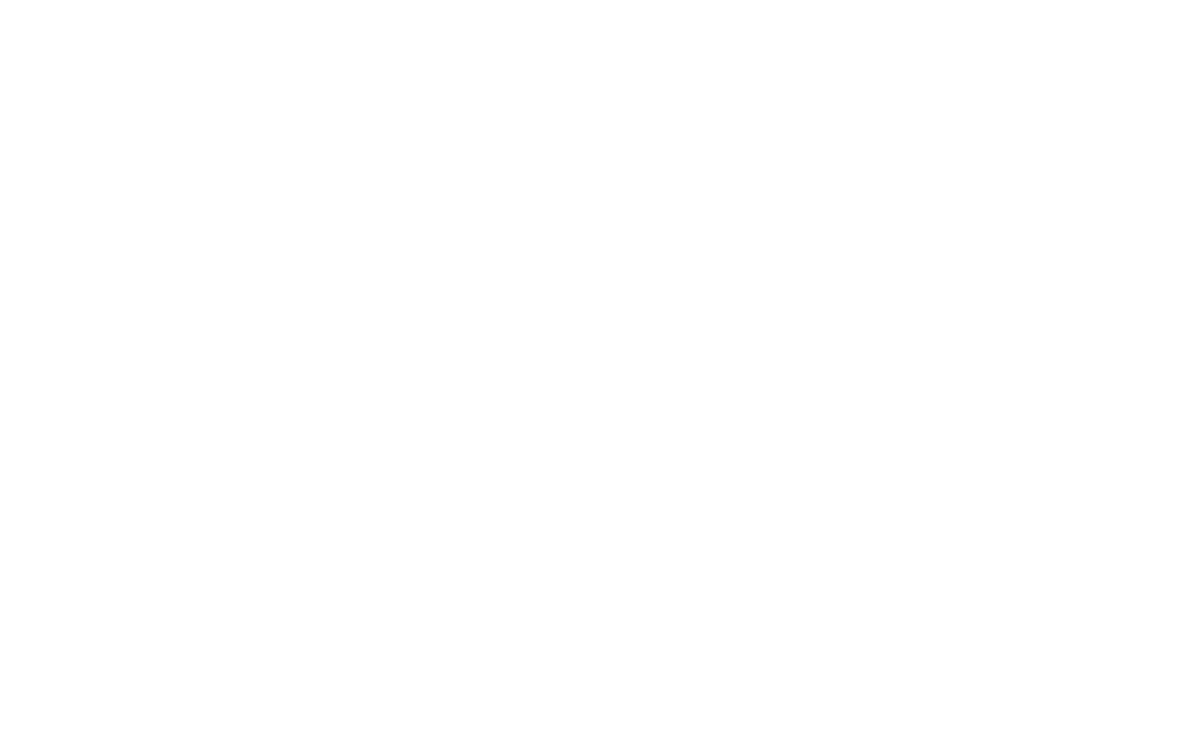
Город Пинега на дореволюционной открытке. Троицкий собор взорван в 1936 г.
Другой исследователь Александр Степанович Пругавин, тоже народник, этнограф, религиевед указывал вероятную численность старообрядцев и сектантов на конец XIX в. в 20 млн. человек [А.С.Пругавин, Раскол внизу и раскол вверху. Очерки современного сектантства. — М.: «Ча-ща», 2019. — С. 198]. Алекандр Пругавин (1850-1920) происходил из Архангельской губернии, родился в семье поморов. Отец ученого был учителем в Пинеге. Пругавин придерживался взглядов нечаевцев, потом отошел от этого течения, основал Трудовую народно-социалистическую партию, будучи журналистом, сотрудничал с Колчаком. 70-летнего старика в 1920 году арестовали большевики. Он умер в красноярской тюрьме от тифа, хотя, возможно, был и убит.
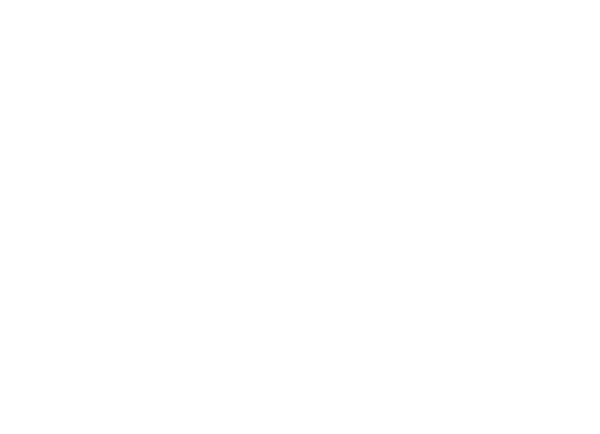
Этнограф Александр Пругавин, фотография 1905 г, Большая российская энциклопедия
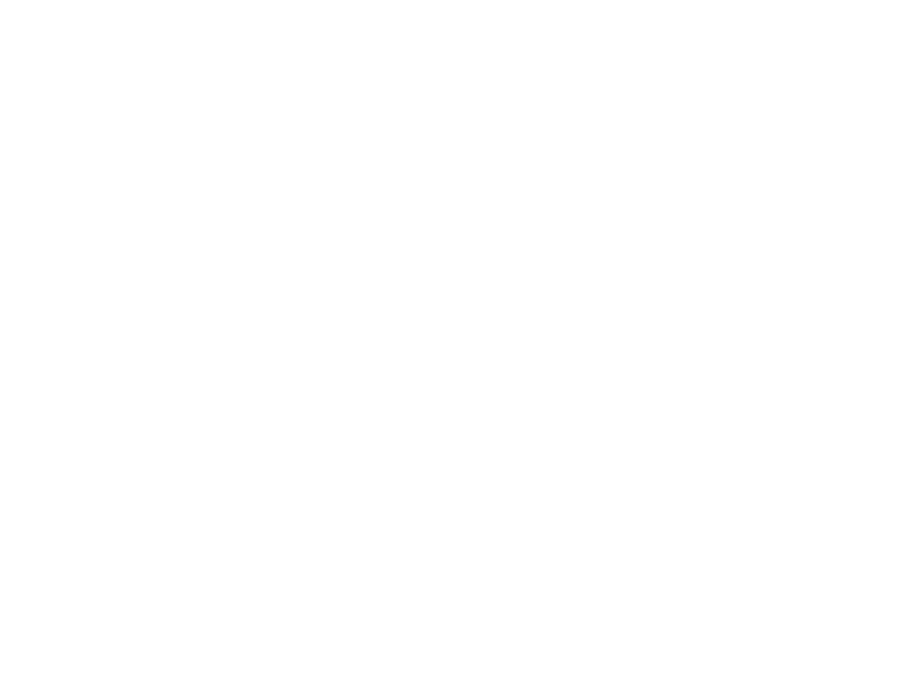
«Божьи люди», художник В.Кузнецов, 1917 г.
Будущий секретарь Ленина Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич оценивал число одних старообрядцев более чем в 20 млн. а численность сектантов, по его данным, превышала 6 млн. человек. Но народники и большевики преувеличивали численность религиозных диссидентов, чтобы показать, что миллионы людей не принимают царскую власть. Сами же диссиденты часто скрывали свои религиозные взгляды. Но даже если опираться на официальные данные Валуева — 1/10 или 1/6 православных Российской Империи была в действительности старообрядцами и сектантами.
2. Юридическое положение старообрядцев
Каково же было юридическое состояние старообрядцев? Профессор Санкт-Петербургской Духовной академии Василий Васильевич Болотов указывал, что царствование императора Николая I было тяжелым временем для раскольников [В.В. Болотов. Двадцать лет законодательных реформ по расколу 1863–1883 г. «Христианское чтение», № 3-8, 1886, № 1-2, 5-6, 1887]. Особенно тяжкие времена они переживали в последние годы царствования, в бытность Министром Внутренних дел Дмитрия Гавриловича Бибикова, на дочери которого был женат будущий Министр Внутренних дел Дмитрий Андреевич Толстой. Бибиков выполнял императорское указание, «чтобы на дела о Расколе было обращено особенное внимание, так как Раскол, по мнению Его Величества, имеет крайне вредное и опасное значение как в религиозном, так и в политическом отношении». В следовании старым обрядам и крестном знамении не тремя, а двумя перстами, конечно, не было для власти ничего опасного. Тем не менее, к раскольникам применяли суровые меры.
Каково же было юридическое состояние старообрядцев? Профессор Санкт-Петербургской Духовной академии Василий Васильевич Болотов указывал, что царствование императора Николая I было тяжелым временем для раскольников [В.В. Болотов. Двадцать лет законодательных реформ по расколу 1863–1883 г. «Христианское чтение», № 3-8, 1886, № 1-2, 5-6, 1887]. Особенно тяжкие времена они переживали в последние годы царствования, в бытность Министром Внутренних дел Дмитрия Гавриловича Бибикова, на дочери которого был женат будущий Министр Внутренних дел Дмитрий Андреевич Толстой. Бибиков выполнял императорское указание, «чтобы на дела о Расколе было обращено особенное внимание, так как Раскол, по мнению Его Величества, имеет крайне вредное и опасное значение как в религиозном, так и в политическом отношении». В следовании старым обрядам и крестном знамении не тремя, а двумя перстами, конечно, не было для власти ничего опасного. Тем не менее, к раскольникам применяли суровые меры.
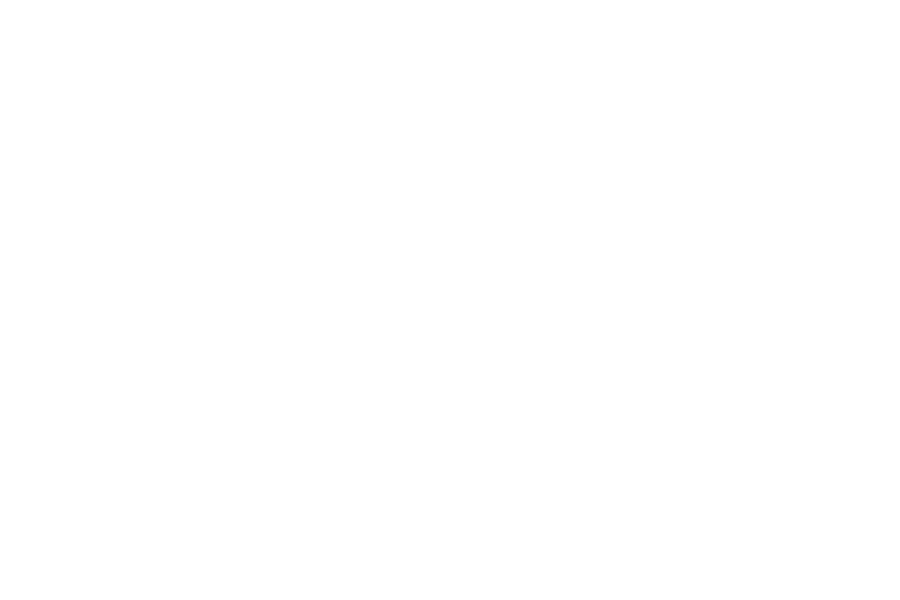
Профессор Василий Болотов, фотография конца XIX в.
Старообрядцев власть уже раньше практически исключила из всего поля российской гражданской жизни. В статье 60-й XIV тома Свода Законодательных установлений о предупреждении и пресечении преступлений (фактически - это уголовное законодательство) от 5 апреля 1845 года было определено, «что раскольники не преследуются за мнения их о вере, но запрещается им совращать и склонять кого-либо в раскол свой, под каким бы то видом ни было, чинить какие-либо дерзости против Православной Церкви или против её священнослужителей и вообще уклоняться почему-либо от соблюдения общих правил благоустройства, законом определенных».
Так обтекаемо характеризуется большая проблема. Понятно, что, если человек имеет какие-то мнения, это — его право. Но если человек начинает объяснять другому то, во что он верит, то это уже вопросы веры. То есть человек считает, что другой не спасется, не достигнет жизни вечной, если пойдет по неверному пути. Надо иметь очень большую широту мышления, чтобы видеть разные пути к Богу. Старообрядцы и раскольники были очень узки в своих взглядах. Например, некоторые считали, что если произносишь имя Иисус не а с одним, а с двумя «и» ,— ты не спасешься, потому что Исус — это спаситель и Иисус — это другой человек , который был бандитом, и, если поминать его, то погибнешь.
Стремление помочь другим людям найти дорогу к правде доходило до фанатизма, а за это предполагалось тяжелое уголовное наказание. Большинство старообрядцев не верили, что царь — помазанник Божий, поэтому не желали ему присягать. Власть видела в этом нарушение фундаментальных принципов.
Так обтекаемо характеризуется большая проблема. Понятно, что, если человек имеет какие-то мнения, это — его право. Но если человек начинает объяснять другому то, во что он верит, то это уже вопросы веры. То есть человек считает, что другой не спасется, не достигнет жизни вечной, если пойдет по неверному пути. Надо иметь очень большую широту мышления, чтобы видеть разные пути к Богу. Старообрядцы и раскольники были очень узки в своих взглядах. Например, некоторые считали, что если произносишь имя Иисус не а с одним, а с двумя «и» ,— ты не спасешься, потому что Исус — это спаситель и Иисус — это другой человек , который был бандитом, и, если поминать его, то погибнешь.
Стремление помочь другим людям найти дорогу к правде доходило до фанатизма, а за это предполагалось тяжелое уголовное наказание. Большинство старообрядцев не верили, что царь — помазанник Божий, поэтому не желали ему присягать. Власть видела в этом нарушение фундаментальных принципов.
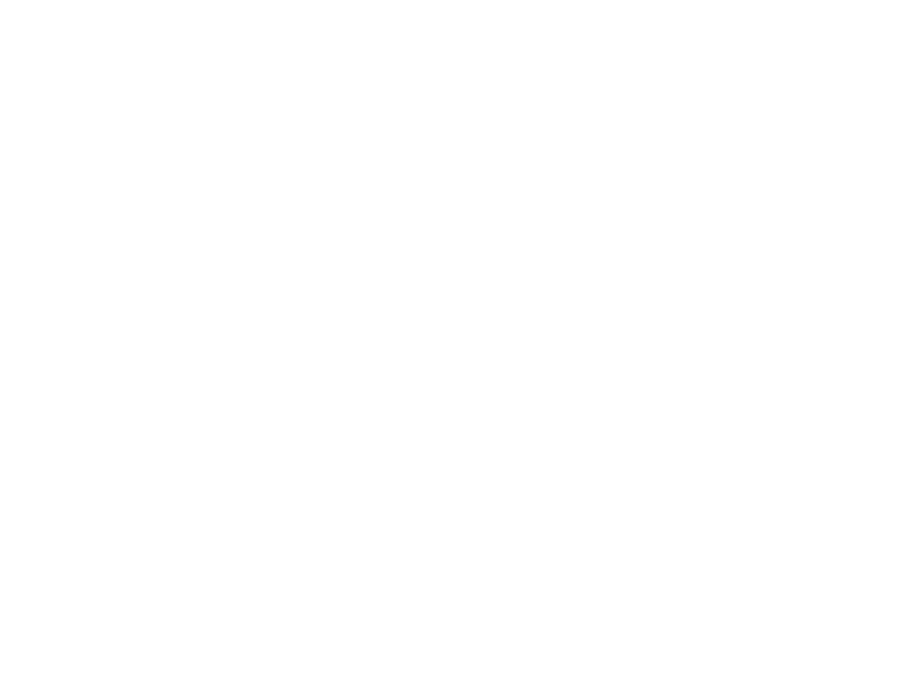
Спор о вере. Картина неизвестного художника, XVIII в. Государственный музей истории религии
Из невежества и грубости общества вытекала дерзость. Уверовав в какую-то истину, русские люди начинали хулить все отличное от их воззрений. Не верующие в благодатность икон, называли их идолами, сжигали и рубили на щепу. Не верующие в благодатность Креста, например, толстовцы, называли его виселицей и т.д. Разумеется, с точки зрения официальной Церкви такие действия считались кощунством, как, например, сейчас — факты сожжения Корана в Дании или Швеции. Контроль, конечно, был необходим: нельзя безнаказанно оскорблять религиозные чувства других людей. Но культурный человек так никогда поступать не будет. Не веруя в иконы, он будет пытаться понять, почему другие в них веруют; отрицая Крест, он будет задаваться вопросом, в чем смысл Креста, почему этот символ так близок многим. Но грубость,малограмотность и взаимная нетерпимость простых людей в России приводила к очень серьезным последствиям.
Тем не менее, сама идея старообрядчества законом 1845 года не преследовалась. Но, как пишет Болотов: «с 1850 по 1855 г. закон, не изменённый законодательным порядком, был на практике заменён сепаратными Высочайшими повелениями, по силе коих раскольники подверглись различным гражданским ограничениям и стеснению даже в негласном исполнении их религиозных обрядов».
Тем не менее, сама идея старообрядчества законом 1845 года не преследовалась. Но, как пишет Болотов: «с 1850 по 1855 г. закон, не изменённый законодательным порядком, был на практике заменён сепаратными Высочайшими повелениями, по силе коих раскольники подверглись различным гражданским ограничениям и стеснению даже в негласном исполнении их религиозных обрядов».
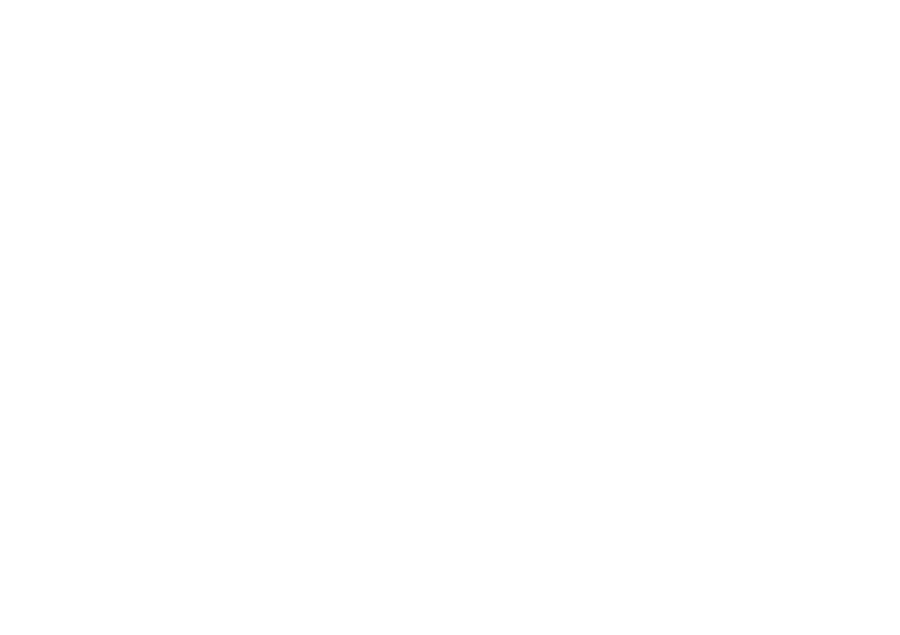
Разглагольствие, или Беседословие старообрядца с новообрядцем. 1850-е годы.
Государственный исторический музей, Москва
Государственный исторический музей, Москва
То есть власть решила оказать давление на огромную часть русского общества. В чем тут дело? Николай I превратился в тирана и боялся внешнего влияния. Он считал, что его окружают наветы и заговоры. Почва для царского беспокойства действительно появилась. Речь идет о возникновения так называемой Белокриницкой иерархии.
3. Белокриницкое согласие
В 1775 году Австрийская Империя отторгла Буковину от Молдавского княжества, находившегося под протекторатом Османской Империи. Буковина была малонаселенной областью, а в то время ценились не столько земли, сколько люди, которые живут на них и платят налоги. Это цинично, но разумнее, чем просто алчное желать захватить землю, выгнать с нее жителей и иначе провести государственную границу на карте. Поэтому в 1783 году австрийский абсолютный монарх — император Иосиф II приглашает на присоединенные земли многочисленных русских старообрядцев, бежавших от преследования из России в Османскую Империю. Все-таки христианский Император для староверов был предпочтительнее Султана: он обещал им полную свободу вероисповедания, возможность основать монастырь и жить со своим уставом. Местом расселения русских старообрядцев стала Белая Криница — сейчас это территория Черновицкой области Украины. Буковина сначала входила в Галицию и Лодомерию, королевство в Австрийской Империи, а с 1849 года это отдельное герцогство Буковина в составе Цислейтании. То есть именно Австрии, а не Венгрии. Возникла одна проблема — у русских старообрядцев не было священства, кроме беглого. Так как отсутствовал епископ, то некому было рукополагать в священники. А если нет священников - беглые считались ненадежными, то невозможно совершать таинства Евхаристии, Венчания и все остальные, кроме Крещения, которое могут совершать и миряне.
В 1775 году Австрийская Империя отторгла Буковину от Молдавского княжества, находившегося под протекторатом Османской Империи. Буковина была малонаселенной областью, а в то время ценились не столько земли, сколько люди, которые живут на них и платят налоги. Это цинично, но разумнее, чем просто алчное желать захватить землю, выгнать с нее жителей и иначе провести государственную границу на карте. Поэтому в 1783 году австрийский абсолютный монарх — император Иосиф II приглашает на присоединенные земли многочисленных русских старообрядцев, бежавших от преследования из России в Османскую Империю. Все-таки христианский Император для староверов был предпочтительнее Султана: он обещал им полную свободу вероисповедания, возможность основать монастырь и жить со своим уставом. Местом расселения русских старообрядцев стала Белая Криница — сейчас это территория Черновицкой области Украины. Буковина сначала входила в Галицию и Лодомерию, королевство в Австрийской Империи, а с 1849 года это отдельное герцогство Буковина в составе Цислейтании. То есть именно Австрии, а не Венгрии. Возникла одна проблема — у русских старообрядцев не было священства, кроме беглого. Так как отсутствовал епископ, то некому было рукополагать в священники. А если нет священников - беглые считались ненадежными, то невозможно совершать таинства Евхаристии, Венчания и все остальные, кроме Крещения, которое могут совершать и миряне.
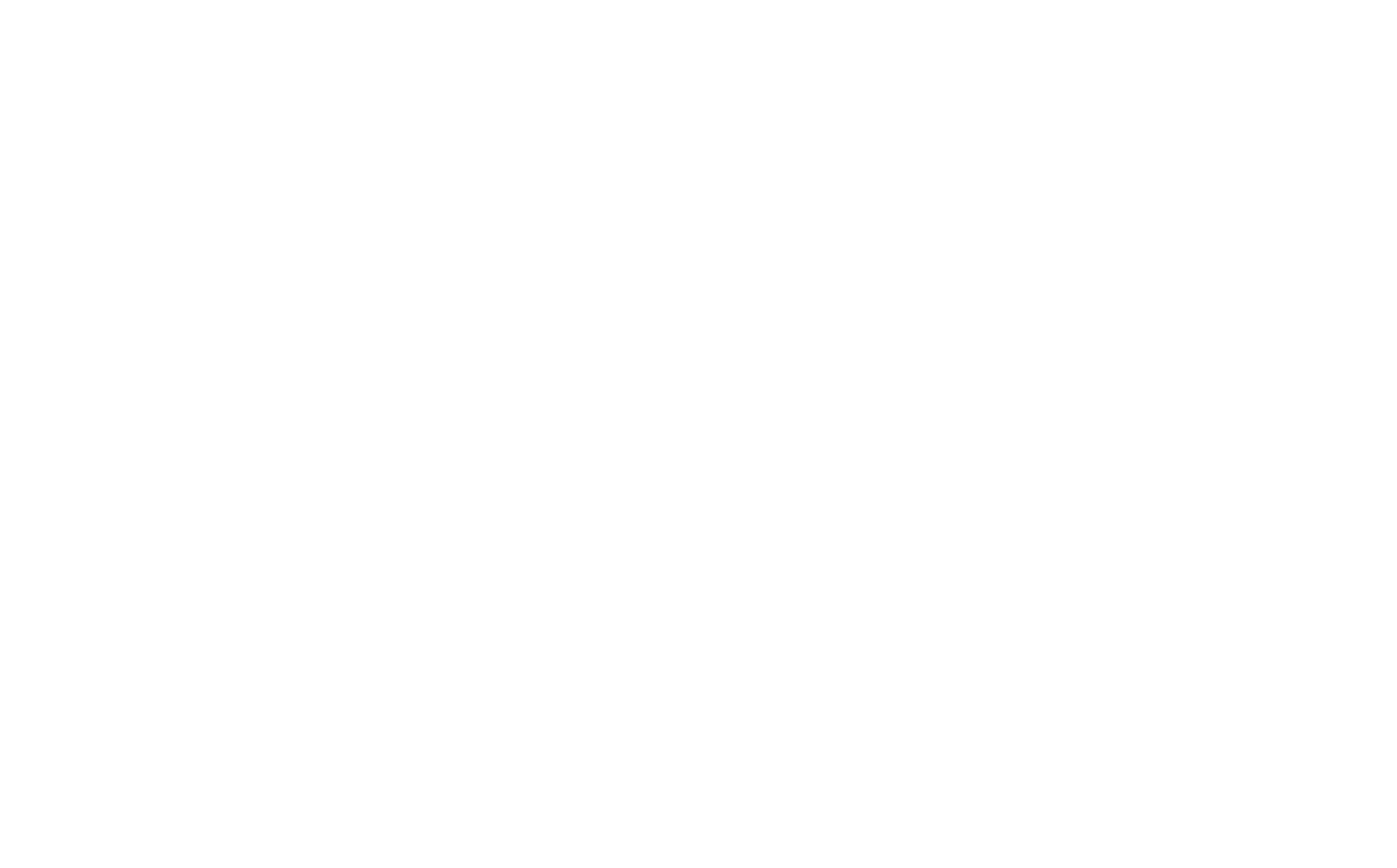
Крестный ход балаковских старообрядцев Белокриницкой иерархии. Фотография до 1917 г.
Поэтому русские старообрядцы задались целью найти епископа. И вот два русских инока Павел, в миру — Петр Великодворский, который пришел с Валдая и Алимпий Милорадов, в миру Афанасий Зверев из Полтавской губернии отправляются на поиск епископа по всему османскому Востоку, доходят до Персии, но в итоге находят в Константинополе Амвросия, — потомственного, в 14-м колене, овдовевшего греческого клирика, бывшего митрополита Босно-Сараевского. Его светское имя — Амиреас Папагеоргопулос. В России для простоты епископа именовали Андреем Поповичем, — имя Амиреас отсутствовало в русских святцах. В 1846 году монахи уговорили жившего на покое епископа перейти в старый обряд. Он согласился. Амвросий переехал в Белую Криницу и рукоположил священников в количестве достаточном для служения в церкви - за время своего правления он рукоположил двух епископов, пять священников и трех диаконов. Он, может быть продолжил бы рукоположения, но император Николай I в декабре 1847 года попросил правительство Австрии прекратить деятельность митрополита Амвросия и закрыть Белокриницкий монастырь. Незадолго до этого российский Император выразил готовность помогать Австрии в подавлении Венгерского восстания. В 1848 году восстание было подавлено, и австрийское правительство не захотело портить отношения с Николаем I. Епископа Амвросия вызвали в Вену и предложили альтернативу — или вернуться в юрисдикцию Константинопольского патриарха, с чем был согласен и сам Патриарх, или отправиться в пожизненную ссылку без права рукополагать кого бы то ни было. Митрополит Амвросий выбрал ссылку. Он заявил: «единожды сию религию принял и уже вспять возвращаться не желаю».
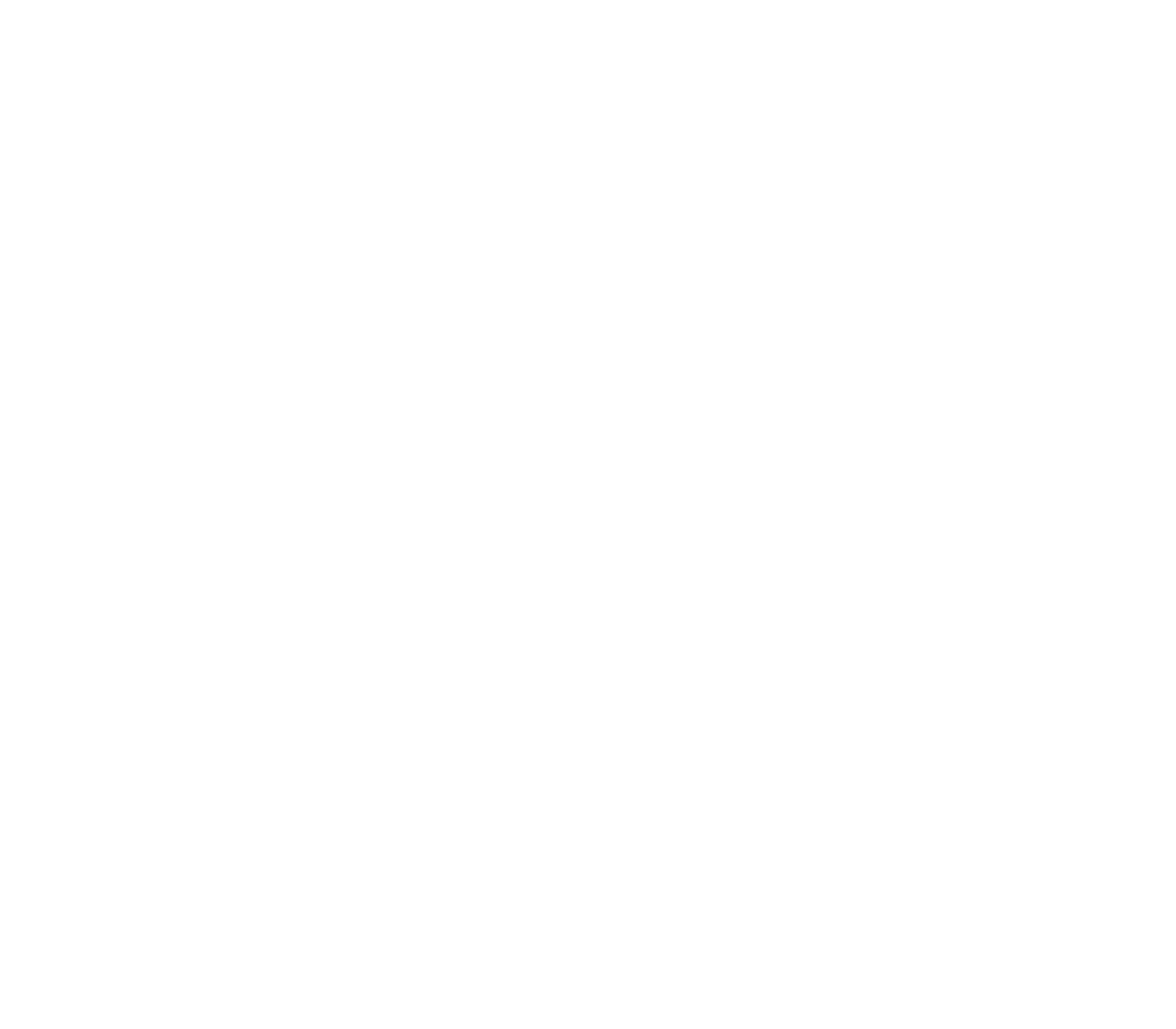
Митрополит Амвросий (Папагеоргопулос)
Белокриницкий монастырь закрыли, Амвросия отправили в ссылку в городок Цилли. Ныне это Целе, Целлийский замок в Словении. Амвросий прожил там 15 лет до своей смерти. Но новая старообрядческая иерархия уже появилась — епископы были рукоположены, исчезла проблема новых священников.
Вскоре отношения Российской империи и Австрии вновь обострились. Австрия не поддержала Россию в «Споре о ключах» и в Крымской войне 1853-1856 гг. Николай I поручил Дмитрию Бибикову учредить особый секретный комитет и особое секретное управление — «заведование» делами раскола при Министерстве Внутренних дел.
Вскоре отношения Российской империи и Австрии вновь обострились. Австрия не поддержала Россию в «Споре о ключах» и в Крымской войне 1853-1856 гг. Николай I поручил Дмитрию Бибикову учредить особый секретный комитет и особое секретное управление — «заведование» делами раскола при Министерстве Внутренних дел.
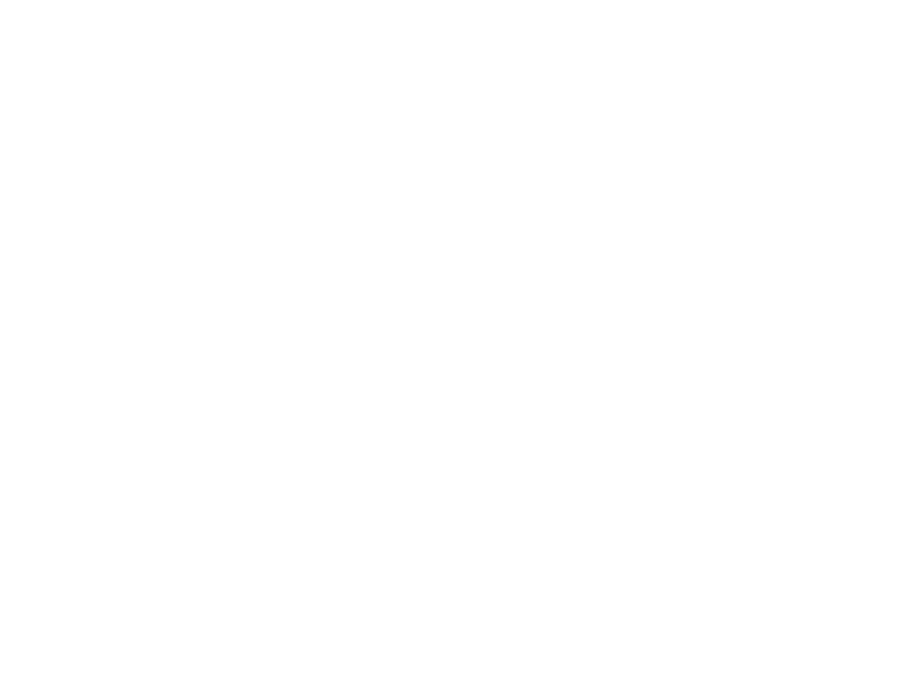
«Старовер», картина художника М.Боткина, 1877 г.
В жизни старообрядцев и раскольников произошла серьезная перемена. Они и раньше были вне закона, но теперь им приходилось или ложно переходить в Православие, или давать огромные взятки полиции и духовенству, покупая так право спокойного существования. В России взятка всегда служила значимым аргументом, особенно в эпоху Николая I, а многие старообрядцы были богатыми людьми. Они были готовы платить большие деньги и за себя, и за своих единоверцев. Старообрядчество было в значительной степени купеческой религией. Конечно, старого обряда придерживались и крестьянские, и ремесленные общины, но среди раскольников было очень много богатых купцов. Большинство известных купеческих родов XIX века, в том числе известные меценаты — Рябушинские, Морозовы, — происходили из старообрядцев.
4. Смягчение отношения к раскольникам
Когда император Александр II наследовал власть, одним из своих первых решений, — в 1855 году, он уволил Бибикова и упразднил особый комитет и особое секретное управление по делам старообрядцев. Все ограничительные решения последних лет николаевского царствования отменили и приняли решение смягчить ограничения имущественных прав и разрешить записи состояния старообрядцев в полиции. До этого русское государство не признавало браки старообрядцев, так как браки не совершались в законной церкви и, естественно, такие браки не записывались в метрические книги, — церковные акты гражданского состояния. Значит, по российским законам солидный семьянин с бородищей и двенадцатью детьми являлся незаконным сожителем своей достойной супруги, а дети считались рожденными в блуде — незаконном сожительстве, и не имели прав наследования. Эти неудобства приходилось обходить непростыми путями за большие взятки. Теперь власти позволили записывать факт брака, рождения и смерти раскольников в полиции. Эта полицейская запись служила веским аргументом при всех проблемах с правами наследования и состояния.
Когда император Александр II наследовал власть, одним из своих первых решений, — в 1855 году, он уволил Бибикова и упразднил особый комитет и особое секретное управление по делам старообрядцев. Все ограничительные решения последних лет николаевского царствования отменили и приняли решение смягчить ограничения имущественных прав и разрешить записи состояния старообрядцев в полиции. До этого русское государство не признавало браки старообрядцев, так как браки не совершались в законной церкви и, естественно, такие браки не записывались в метрические книги, — церковные акты гражданского состояния. Значит, по российским законам солидный семьянин с бородищей и двенадцатью детьми являлся незаконным сожителем своей достойной супруги, а дети считались рожденными в блуде — незаконном сожительстве, и не имели прав наследования. Эти неудобства приходилось обходить непростыми путями за большие взятки. Теперь власти позволили записывать факт брака, рождения и смерти раскольников в полиции. Эта полицейская запись служила веским аргументом при всех проблемах с правами наследования и состояния.
Смягчение прав помогло в обыденной жизни, но этого было мало. Не случайно П.А.Валуев пишет Царю: «сколько ваших подданных лишены вашей фактически заботы». 20 января 1858 года Александр II объявил по совету близких ему людей, о необходимости тщательного изучения проблемы Раскола, чтобы понять, что нужно менять. Не ожидая универсального разрешения вопроса о Расколе и большой законодательной реформы, Император требовал срочно ввести в жизнь раскольников и сектантов гуманные принципы терпимости.
24 апреля 1858 года император Александр II подписал повеление губернским секретным совещательным комитетам собрать и пересмотреть все существующие постановления о раскольниках и выработать правила касательно доказательства раскольниками прав по происхождению и имуществу. Все это было сделано. Главным советником и специалистом по Расколу становится хорошо известный нам как писатель Павел Иванович Мельников-Печерский. Печерский — это псевдоним, а Павел Иванович Мельников — государственный чиновник, который при Николае I, малоизвестный факт, — был одним из гонителей раскольников. Мельников ревностно исполнял требования почившего Императора, но почувствовал, что дух власти изменился. Наверное, он изменил свое мнение, и когда ближе познакомился с жизнью старообрядцев и сектантов, понял, что это в основном очень достойные люди, в худшем случае — несколько узко мыслящие, но живущие честно. Поэтому Мельников с радостью включился в деятельность, которую предложило Министерство Внутренних дел.
24 апреля 1858 года император Александр II подписал повеление губернским секретным совещательным комитетам собрать и пересмотреть все существующие постановления о раскольниках и выработать правила касательно доказательства раскольниками прав по происхождению и имуществу. Все это было сделано. Главным советником и специалистом по Расколу становится хорошо известный нам как писатель Павел Иванович Мельников-Печерский. Печерский — это псевдоним, а Павел Иванович Мельников — государственный чиновник, который при Николае I, малоизвестный факт, — был одним из гонителей раскольников. Мельников ревностно исполнял требования почившего Императора, но почувствовал, что дух власти изменился. Наверное, он изменил свое мнение, и когда ближе познакомился с жизнью старообрядцев и сектантов, понял, что это в основном очень достойные люди, в худшем случае — несколько узко мыслящие, но живущие честно. Поэтому Мельников с радостью включился в деятельность, которую предложило Министерство Внутренних дел.
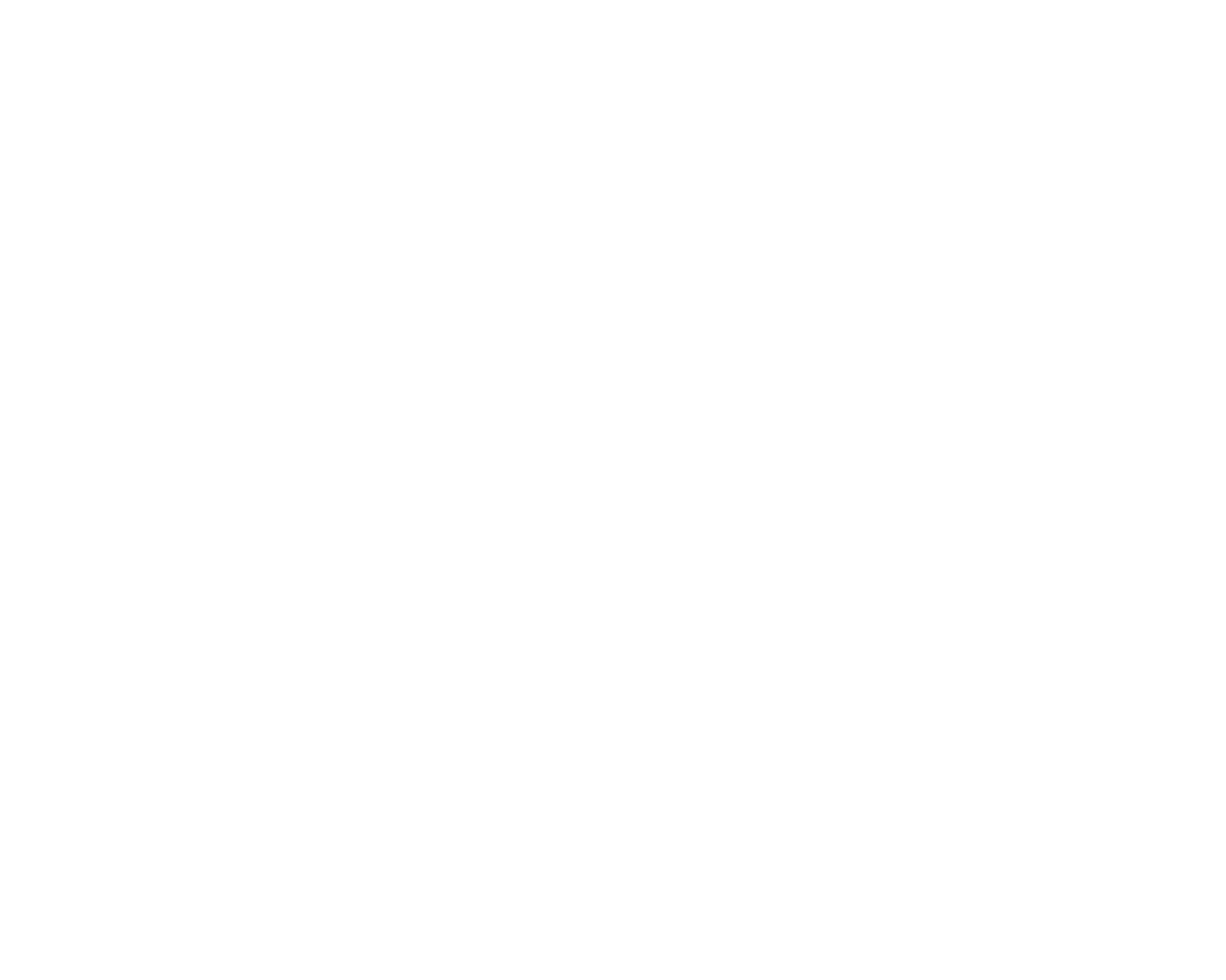
Павел Мельников-Печерский, Гравюра на дереве по рисунку П. Бореля, 1883 г.
18 октября 1857 года Павлу Ивановичу Мельникову совместно с действительным статским советником статистиком и этнографом Александром Ивановичем Артемьевым было поручено составить возможно более полное историко-догматическое изложение учения разных раскольнических сект. Они получили доступ к рукописям Публичной библиотеки в Петербурге, Румянцевского музея в Москве, архива Министерства Внутренних дел, а также выписки из дел секретного комитета по расколу. Помощь в области богословия оказывал профессор Московской духовной академии Николай Иванович Субботин. Итогом работы стали три тома «Сборника правительственных постановлений, относящихся к Расколу», составленных с большой доброжелательностью к раскольникам. Павла Мельникова в церковных кругах прозвали Павлом наоборот, — Савл из «Деяний апостолов» уверовал во Христа и превратился в Павла, а Павел Мельников якобы увлекся Расколом и помогал уже не Церкви, а раскольникам. Однако Министр Внутренних дел Сергей Степанович Ланской очень поддерживал Мельникова и ценил его положительный подход к старообрядцам.
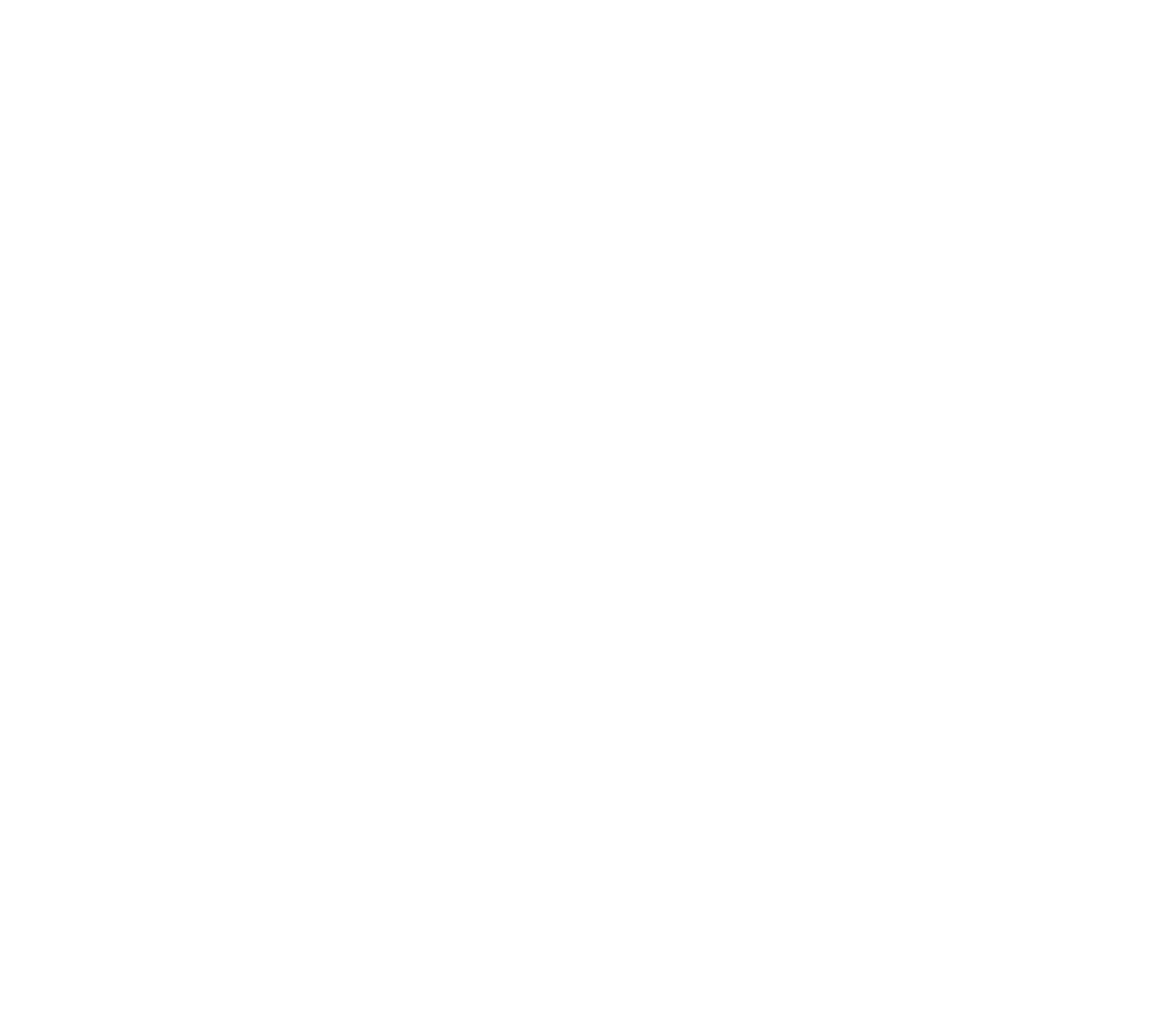
граф Сергей Ланской, портрет из альбома
«С.-Петер.столичная полиция и градоначальство, 1703-1903»
«С.-Петер.столичная полиция и градоначальство, 1703-1903»
Иначе подошел к проблеме преемник Ланского — Петр Александрович Валуев. Вообще новый министр относился к раскольникам хорошо. Валуев многое сделал для того, чтобы их жизнь была упорядочена и получила законное правовое развитие, но к Мельникову он изначально отнесся с подозрением. Причина такой подозрительности министра интересна для любителей русской истории.
Дело в том, что Мельников, работая в архивах Министерства Внутренних дел, раскрыл невероятный факт. Оказывается, создание Белокриницкой иерархии и призвание греческого митрополита русскими старообрядцами делалось при содействии двух наиболее близких к императору Николаю I людей, — графа Александра Бенкендорфа и светлейшего князя Ивана Пасквеича-Эриванского, ужасно сказать, — за взятку.
Старообрядцы собрали, по данным Мельникова, 2,5 миллиона золотых рублей и вручили деньги двум ближайшим соратникам Императора, чтобы Николай им не мешал. Но когда Бенкендорф умер, а Паскевич отошел от дел, тогда при Министре Внутренних дел Бибикове началось давление на старообрядцев. Валуев просил Мельникова не предавать огласке эти факты, чтобы не бросать тень на царствование отца Александра II. Однако Мельников просьбой пренебрег и между ним и Валуевым не возникли доверительные отношения.
Дело в том, что Мельников, работая в архивах Министерства Внутренних дел, раскрыл невероятный факт. Оказывается, создание Белокриницкой иерархии и призвание греческого митрополита русскими старообрядцами делалось при содействии двух наиболее близких к императору Николаю I людей, — графа Александра Бенкендорфа и светлейшего князя Ивана Пасквеича-Эриванского, ужасно сказать, — за взятку.
Старообрядцы собрали, по данным Мельникова, 2,5 миллиона золотых рублей и вручили деньги двум ближайшим соратникам Императора, чтобы Николай им не мешал. Но когда Бенкендорф умер, а Паскевич отошел от дел, тогда при Министре Внутренних дел Бибикове началось давление на старообрядцев. Валуев просил Мельникова не предавать огласке эти факты, чтобы не бросать тень на царствование отца Александра II. Однако Мельников просьбой пренебрег и между ним и Валуевым не возникли доверительные отношения.
Тем не менее Валуев выступал за старообрядцев. Министр писал Александру II, что если Царь принимает от старообрядцев материальные жертвы на восстановление русской жизни, армии и разрушенного после Крымской войны хозяйства и при этом ущемляет их в правах, это — неправильно: «Тем из верноподданных Ваших, которым в эпоху трудных и важных для всего государства обстоятельств дозволяется наравне с другими пользоваться драгоценным правом заявлять публично, сообща преданность Вашему Величеству и любовь к России, вслед за тем уже не может быть отказываемо в частных правах гражданской и семейной жизни» [П.А.Валуев. Всеподданейшая докладная записка Государю Императору о пересмотре законодательства о раскольниках. 4 октября 1863 г.].
Александр II принял аргументы Валуева. В феврале 1864 года был учрежден особый временный комитет из духовных и светских членов для рассмотрения законодательных предположений. Валуев объясняет Императору, что секты нельзя уравнивать, среди них есть «положительно вредные, менее вредные и безвредные». «Положительно вредными, — пишет Валуев, — признаются секты, отличающиеся свирепым изуверством и фанатическим посягательством на личность свою и других». Речь идет о скопцах и хлыстах, которые пропагандировали целомудренную жизнь и отказ от семьи. Для этого они оскопляли и себя, и тех, кто хотел за ними пойти. Девушек агитировали не вступать в брак. Надо сказать, что в XVIII и начале XIX века эта практика без физического оскопления практиковалась во многих русских православных монастырях, — многие монахи и монахини фанатично проповедовали безбрачие. Валуев продолжает: «Менее вредными считаются те секты, коих последователи только отвергают брак и молитву за Царя. Все остальные секты, коих последователи признают брак и молятся за Царя, не считаются вредными в отношении гражданском. Все, предполагаемые по Своду II Отделения льготы, распространяются с немногими исключениями только на последователей менее вредных и безвредных сект». Мельников вскоре докажет, что нет сект, отвергающих почитание царя и брак.
Александр II принял аргументы Валуева. В феврале 1864 года был учрежден особый временный комитет из духовных и светских членов для рассмотрения законодательных предположений. Валуев объясняет Императору, что секты нельзя уравнивать, среди них есть «положительно вредные, менее вредные и безвредные». «Положительно вредными, — пишет Валуев, — признаются секты, отличающиеся свирепым изуверством и фанатическим посягательством на личность свою и других». Речь идет о скопцах и хлыстах, которые пропагандировали целомудренную жизнь и отказ от семьи. Для этого они оскопляли и себя, и тех, кто хотел за ними пойти. Девушек агитировали не вступать в брак. Надо сказать, что в XVIII и начале XIX века эта практика без физического оскопления практиковалась во многих русских православных монастырях, — многие монахи и монахини фанатично проповедовали безбрачие. Валуев продолжает: «Менее вредными считаются те секты, коих последователи только отвергают брак и молитву за Царя. Все остальные секты, коих последователи признают брак и молятся за Царя, не считаются вредными в отношении гражданском. Все, предполагаемые по Своду II Отделения льготы, распространяются с немногими исключениями только на последователей менее вредных и безвредных сект». Мельников вскоре докажет, что нет сект, отвергающих почитание царя и брак.
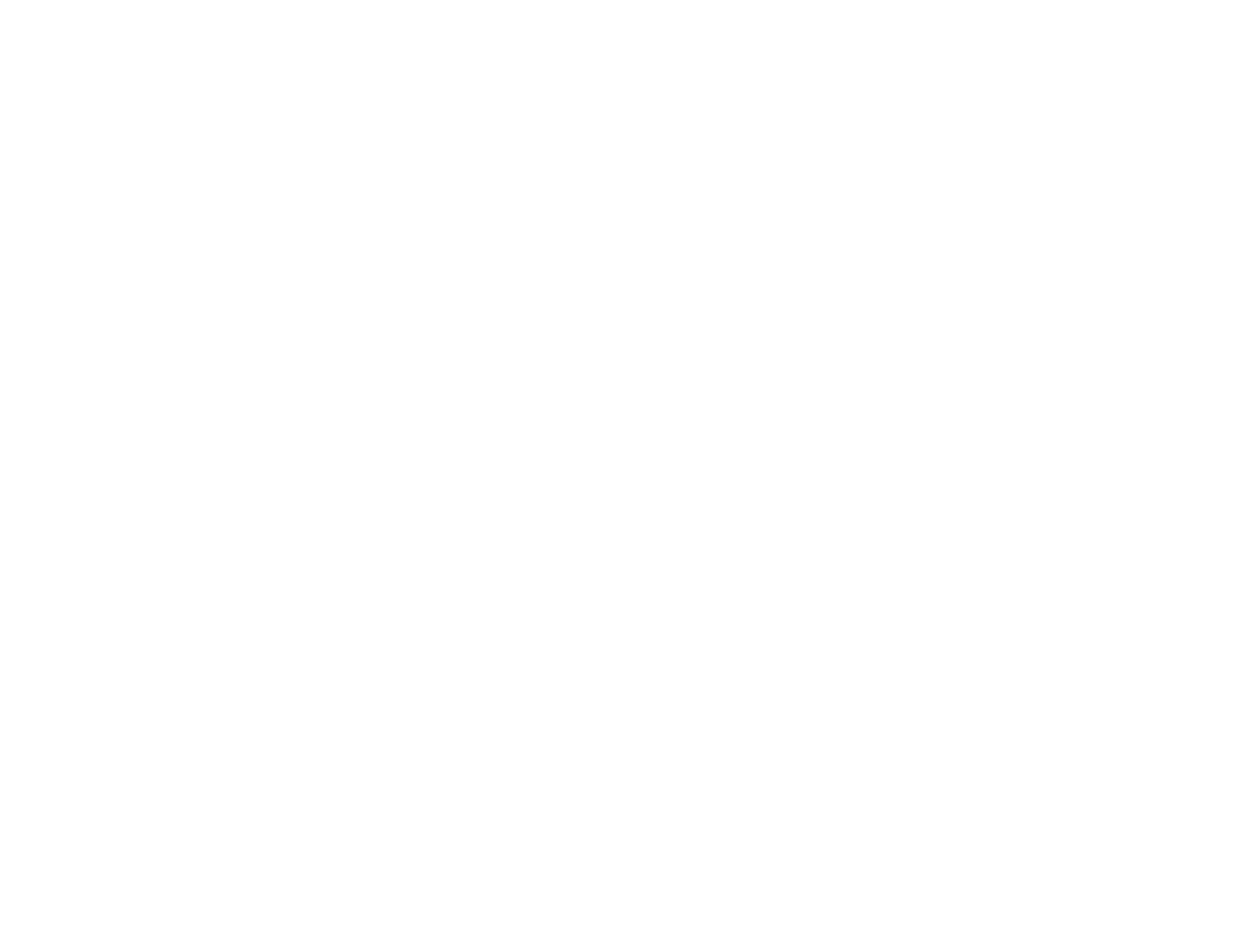
Группа монахов в храме, фотография 1892 г. МАММ / МДФ
П.А.Валуев убеждал Императора дозволить «менее вредным и безвредным» сектам сохранять старые и устраивать новые молитвенные дома, хотя и с некоторыми исключениями. Беглых священников, перешедших из Православия в Старообрядчество предлагалось освобождать от преследований. Валуев советовал позволить иметь раскольникам « духовных лиц», как в Белокриницкой иерархии и разрешить им в том числе сопровождать осужденных на смерть заключенных до места казни. Среди других предложений Валуева — разрешить браки по раскольническому обряду; не принуждать детей раскольников обучаться в школах закону Божию у православных священников; позволить родственникам хоронить православных на раскольнических кладбищах. Последнее было важно, так как многие богатые и знатные люди, при жизни скрывали принадлежность к Расколу, но завещали себя хоронить на старообрядческом кладбище. Их семьям отказывали, так как формально они считались православными.
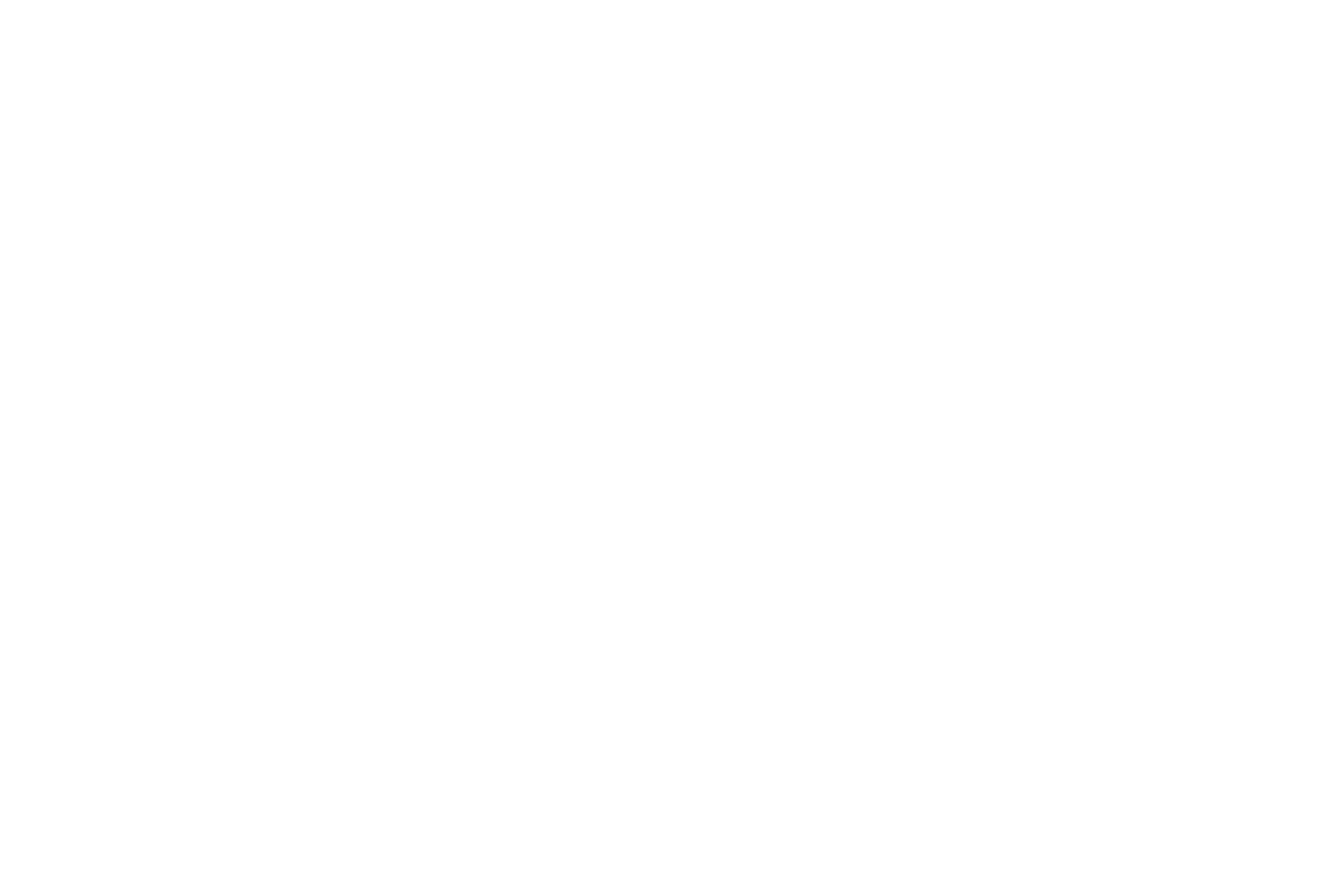
На кладбище, фотография начала XX в.
В области гражданских прав Валуев предложил не преследовать за уход в Раскол и за совращение к Расколу при отсутствии насильственных действий; разрешить раскольникам жить там, где они считают нужным, участвовать в «бедственных делах»; возглавлять земские учреждения; обрести право на почетные награды и отличия, допустить к торговле на общих основаниях, что для купцов-старообрядцев было особенно важным, разрешить быть свидетелями при следствии в суде и присягать по желанию, не так, как присягают православные, — перед священником, а перед председателем судебного места или следователем на старопечатном Евангелии и восьмиконечном кресте. Старообрядцам предлагалось позволить получать паспорта, свободно передвигаться по России, выезжать за границу и въезжать в Россию. Это было очень важно для белокриницкого духовенства, центр которого находился в Австро-Венгрии, были старообрядческие центры и в Германии, и в Турции.
Старообрядцы, по предложению министра, могли нанимать за себя православных рекрутов. До военных реформ еще не было всеобщей воинской повинности, и если богатый раскольник не желал, чтобы его сын служил в армии батюшке царю, то он мог за деньги нанять на его место бедного православного парня. Предполагалась отмена заведенных полицией ведомостей о числе раскольников и сохранение лишь списков родившихся и умерших, то есть планировалось не регистрировать старообрядцев в полиции в особом порядке.
Старообрядцы, по предложению министра, могли нанимать за себя православных рекрутов. До военных реформ еще не было всеобщей воинской повинности, и если богатый раскольник не желал, чтобы его сын служил в армии батюшке царю, то он мог за деньги нанять на его место бедного православного парня. Предполагалась отмена заведенных полицией ведомостей о числе раскольников и сохранение лишь списков родившихся и умерших, то есть планировалось не регистрировать старообрядцев в полиции в особом порядке.
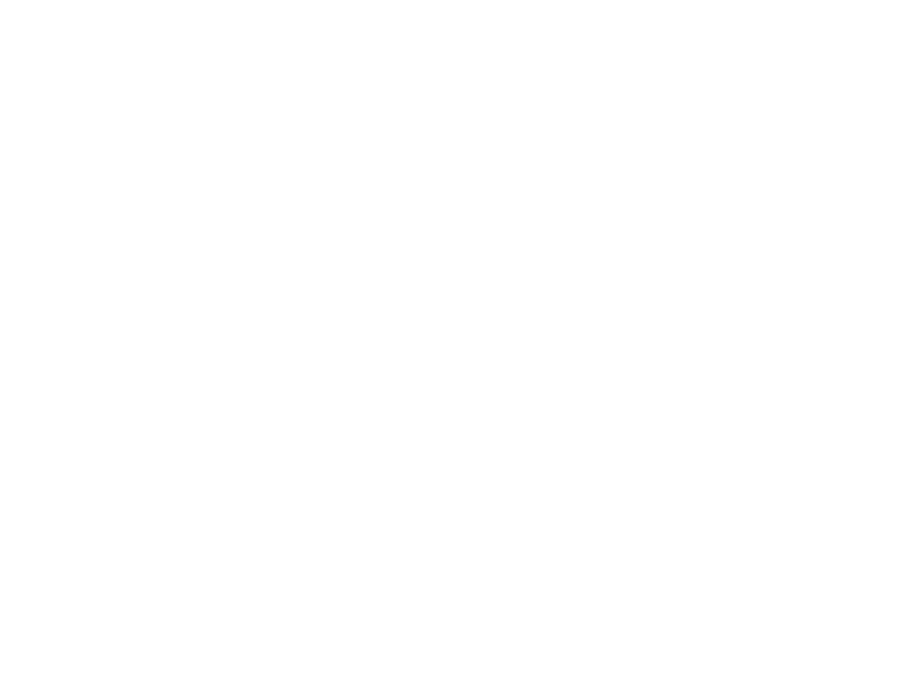
«Старинный обряд благословения невесты в городе Муроме», картина художника И.Куликова, 1909 г.
По закону от 19 апреля 1874 года раскольники получили право браков. Об огромной положительной роли этого закона пишет русский богослов Илья Степанович Бердников - канонист из семьи причетника Вятской губернии, полиглот и профессор каноники Казанской духовной академии и Казанского университета. Автор исследования по церковно-государственным отношениям с Византией. [И.С.Бердников. Заметка по вопросу о раскольническом браке. Казань: Типо-лит. Имп. ун-та, 1895. - C. 43].
Однако, профессор Василий Болотов замечает, что закон 1874 года при всей своей важности в области гражданского права имеет исключительно специальное назначение: «Оставалось сделать еще многое и при том не в одной какой-то специальной области известного права, а во всех разнообразных определениях правовых отношений полноправного гражданина для старообрядцев и раскольников» [В.В. Болотов. Двадцать лет законодательных реформ по расколу 1863–1883 г. «Христианское чтение», № 3-8, 1886, № 1-2, 5-6, 1887].
Однако, профессор Василий Болотов замечает, что закон 1874 года при всей своей важности в области гражданского права имеет исключительно специальное назначение: «Оставалось сделать еще многое и при том не в одной какой-то специальной области известного права, а во всех разнообразных определениях правовых отношений полноправного гражданина для старообрядцев и раскольников» [В.В. Болотов. Двадцать лет законодательных реформ по расколу 1863–1883 г. «Христианское чтение», № 3-8, 1886, № 1-2, 5-6, 1887].
Для подготовки всеобъемлющего закона о правах старообрядцев и сектантов в 1875 году была создана комиссия Министерства Внутренних дел. Эта политика проводилась в общем русле Великих реформ и предполагала в данном случае освобождение не от крепостной зависимости, а от духовных уз и юридического неравенства из-за особенностей вероисповедания огромного круга людей, большей частью русских и украинцев.
Мельников-Печерский доказывал, что старообрядцы вовсе не противники монархии, а, напротив, — очень консервативные люди, которые поддерживают монарха и уважают брак. Современные крайне правые увидят в старообрядцах собратьев. Мельников приводит слова того самого Павла Великодворского, который разыскал митрополита Амвросия и сделал его начальником Белокриницкой иерархии. Вот как он пишет единоверцам в России по поводу революции 1848 года в Австрии, известной в мире как освободительная: «теперь у нас (в Австрийской империи — А.З.) вольность всем верам, но это горе, а грядет еще вдвое. Конституция — нож, мёдом помазан на погубление людей, она от антихриста, ибо царь Богом поставлен. И если вы, когда услышите от кого одно слово „конституция“ – бегайте от того».
Мельников-Печерский доказывал, что старообрядцы вовсе не противники монархии, а, напротив, — очень консервативные люди, которые поддерживают монарха и уважают брак. Современные крайне правые увидят в старообрядцах собратьев. Мельников приводит слова того самого Павла Великодворского, который разыскал митрополита Амвросия и сделал его начальником Белокриницкой иерархии. Вот как он пишет единоверцам в России по поводу революции 1848 года в Австрии, известной в мире как освободительная: «теперь у нас (в Австрийской империи — А.З.) вольность всем верам, но это горе, а грядет еще вдвое. Конституция — нож, мёдом помазан на погубление людей, она от антихриста, ибо царь Богом поставлен. И если вы, когда услышите от кого одно слово „конституция“ – бегайте от того».
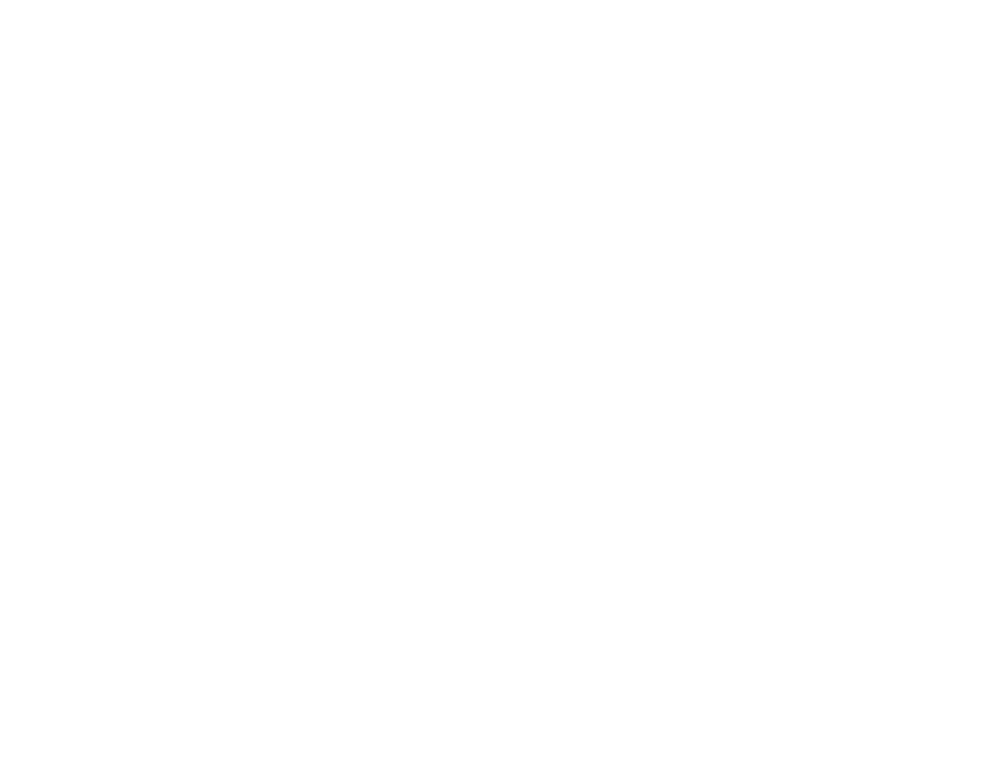
Павел Великодворский, портрет неизвестного художника, 3-я четверть XIX в.
Государственный исторический музей, Москва
Государственный исторический музей, Москва
Мельников заключает: «Таков взгляд русских раскольников на царскую власть. Только недоброхот России, её внутренней тишине и спокойствию, может приписать раскольникам антимонархические и демократические стремления. Кроме Герцена такие стремления приписывали им ещё горько обманувшиеся в своих расчётах на раскольников поляки (имеется в виду Второе Польское восстание — А.З.)». То есть раскольники, хоть и не считают царей, начиная с Алексея Михайловича, богопомазанными, но все равно им подчиняются всецело, следуя законописанию «Бога бойтесь, царя чтите». То же самое и в области брака.
Мельников-Печерский пишет, что фактически раскольники признают брак: «Они говорят: со времён патриарха Никона благодать взята на небо, рассыпался освящённый чин, и не стало руки освящающей, которая могла бы совершать таинства.
Оттого у них и нет таинств, кроме двух, которые, в случае нужды, Православная Церковь дозволяет совершать и простолюдинам: крещения и покаяния. Брака освятить некому, потому церковного брака у них и нет».
Мельников-Печерский пишет, что фактически раскольники признают брак: «Они говорят: со времён патриарха Никона благодать взята на небо, рассыпался освящённый чин, и не стало руки освящающей, которая могла бы совершать таинства.
Оттого у них и нет таинств, кроме двух, которые, в случае нужды, Православная Церковь дозволяет совершать и простолюдинам: крещения и покаяния. Брака освятить некому, потому церковного брака у них и нет».
Так сложилось у беспоповцев. Когда появилась Белокриницкая иерархия, естественно, брак появился. Но и беспоповцы вступали в брак: «каждый беспоповец смолоду до старости имеет одну сожительницу, с которой сходится без всяких обрядов. Употреблять молитвы при совершении такого брака страшный грех, ибо это, по понятиям беспоповцев, не брак, но блудное сожитие, хотя и греховное, но допускаемое, терпимое „немощи ради человеческой“. Живущие в таком брачном союзе – „грешники“, оттого они и не допускаются в часовни к богослужению, а могут стоять только в притворе, как тяжко согрешившие. После каждой исправы (исповеди) они несут тяжёлые епитимии, сот по пяти земных поклонов в день. Прекратившие по старости супружеские отношения считаются „девственниками“, „чистыми“, вполне принадлежащими „к избранному стаду“… Сожительство федосеевцев и других беспоповцев, не имеющих освящённого брака, крепко, неразрывно. Неверность сожителя или сожительницы случается чрезвычайно редко».
Справедливо убежденные Мельниковым-Печерским, члены комиссии пришли к выводу, что вообще нельзя делить на разные категории раскольников и сектантов на безвредные и менее вредные. Надо только выделить самые одиозные секты, которые отвергают реально брак и наносят себе и другим членовреждение. Это — скопцы и хлысты.
Справедливо убежденные Мельниковым-Печерским, члены комиссии пришли к выводу, что вообще нельзя делить на разные категории раскольников и сектантов на безвредные и менее вредные. Надо только выделить самые одиозные секты, которые отвергают реально брак и наносят себе и другим членовреждение. Это — скопцы и хлысты.
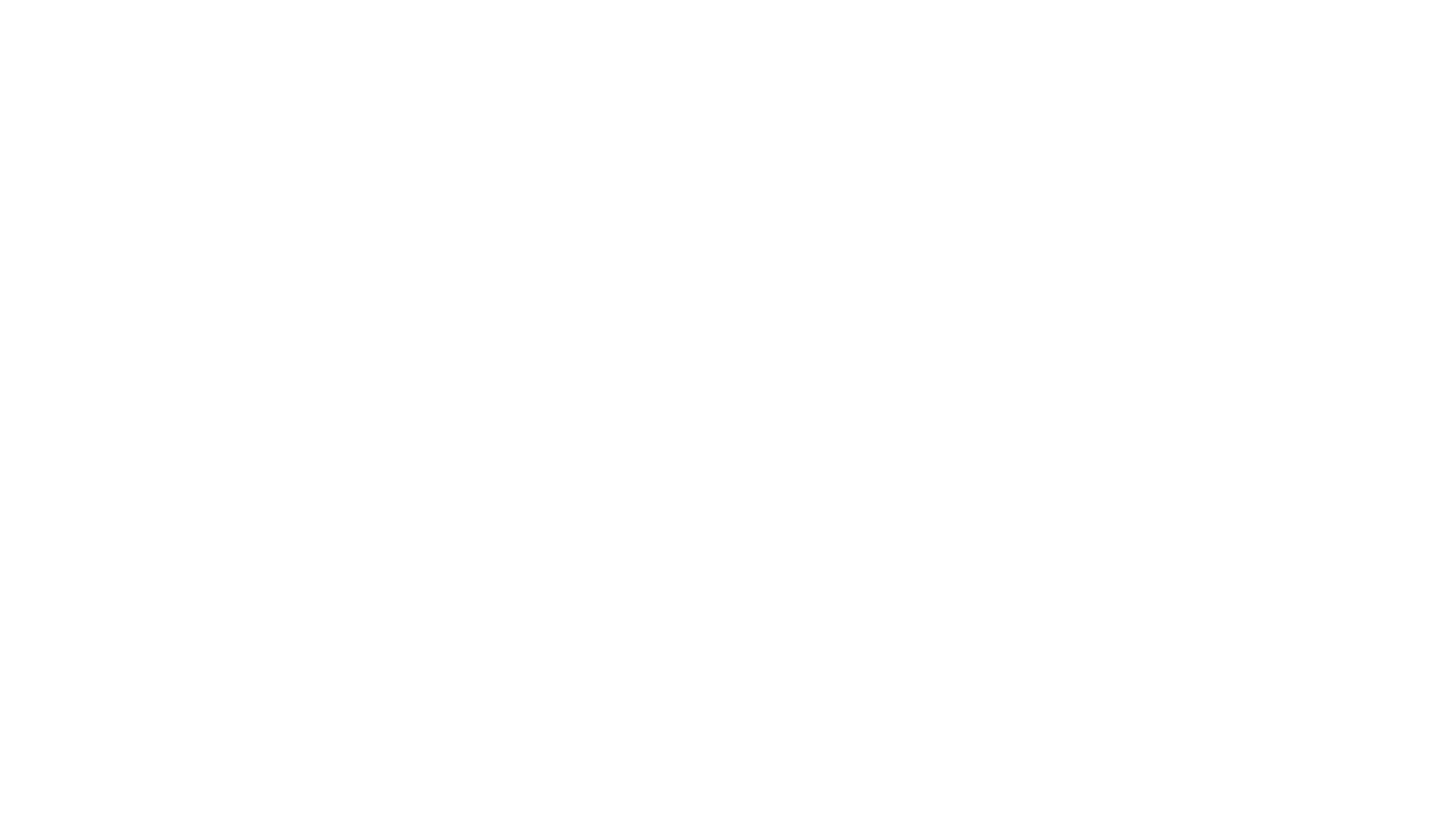
Радение (моление) хлыстов, рисунок неизвестного художника
Петр Валуев задается вопросом, на каком принципе должны строится отношения раскольников с государством: на принципе терпимости или принципе признания. Принцип терпимости исходит из того, что в России настоящими гражданами считают только православных, а куда деваться 1/10 части населения? Раскольников и сектантов в такой модели приходится «терпеть». Второй же принцип, за который ратует Валуев, признание раскольников полноценными гражданами, имеющими право на собственные религиозные суждения, и только там, где они нарушают закон, например, агитируют против брака, их можно признавать виновными по уголовной статье.
Валуев пишет: «Нет прямой надобности различать кто нарушает закон: раскольник, православный или иноверец, и посему непоследовательно было бы специализировать преступления раскольников по их сектам». Так комиссия постепенно приходит к убеждению, что принцип деления сект на более и менее вредные надо отвергнуть и разойтись с Церковью в этом вопросе. «Надлежало бы руководствоваться в дальнейших мероприятиях относительно Раскола общею мыслию, — отмечает Валуев, — что одна гражданская власть должна быть поставлена с ним в непосредственное соприкосновение, что на ней одной должна лежать обязанность не допускать со стороны раскольников нарушения относящихся до них постановлений и что посему она не может быть обязываема исполнять в отношении к сектаторам какие-либо требования власти духовной… Против религиозных заблуждений принудительная мера вообще ненадежна. Наши раскольники преимущественно потому враждебны обществу, что закон постановляет их в неприязненные к нему отношения». То есть власти постепенно осознают, что пора разделить церковное и светское.
Валуев пишет: «Нет прямой надобности различать кто нарушает закон: раскольник, православный или иноверец, и посему непоследовательно было бы специализировать преступления раскольников по их сектам». Так комиссия постепенно приходит к убеждению, что принцип деления сект на более и менее вредные надо отвергнуть и разойтись с Церковью в этом вопросе. «Надлежало бы руководствоваться в дальнейших мероприятиях относительно Раскола общею мыслию, — отмечает Валуев, — что одна гражданская власть должна быть поставлена с ним в непосредственное соприкосновение, что на ней одной должна лежать обязанность не допускать со стороны раскольников нарушения относящихся до них постановлений и что посему она не может быть обязываема исполнять в отношении к сектаторам какие-либо требования власти духовной… Против религиозных заблуждений принудительная мера вообще ненадежна. Наши раскольники преимущественно потому враждебны обществу, что закон постановляет их в неприязненные к нему отношения». То есть власти постепенно осознают, что пора разделить церковное и светское.
5. Закон 1883 года
Большой закон о раскольниках и сектантах был принят только при Александре III 3 мая 1883 года, спустя двадцать лет колебаний и споров. Император утвердил мнение Государственного совета о даровании раскольникам некоторых прав гражданских и по отправлению некоторых духовных треб. Современный наш исследователь Владимир Борисович Лебедев пишет: «Согласие Александра III подписать данный акт (закон 3 мая 1883 года — А.З.) («несмотря на отчаянное противодействие обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева, считавшего раскольников злейшими внутренними врагами Православной церкви») было связано с очевидной необходимостью нормализации отношений с одной из наиболее экономически активных категорий населения Российской Империи» [В.Б.Лебедев. Религиозные преступления в законодательстве Российской империи в XVIII – начале XX вв.: монография. Псков: Псковский юрид. ин-т ФСИН России, 2007. - С.98].
Но, безусловно, главной причиной было не желание дать права экономически активному населению, хотя этот аргумент приводился постоянно, а сам дух Великих реформ, который сохранялся в Государственном совете. Комиссия, созданная Александром II в 1875 году при Валуеве, дала свои рекомендации. Государственный совет оставался вполне либеральным органом, поэтому он, несмотря на требования Победоносцева, принял этот закон. Победоносцев был очень недоволен: Император пошел против его воли, следуя логике государственной целесообразности, — нельзя было в конце ХIХ века отвергать и ставить ы ущемленное положение огромную часть общества.
Большой закон о раскольниках и сектантах был принят только при Александре III 3 мая 1883 года, спустя двадцать лет колебаний и споров. Император утвердил мнение Государственного совета о даровании раскольникам некоторых прав гражданских и по отправлению некоторых духовных треб. Современный наш исследователь Владимир Борисович Лебедев пишет: «Согласие Александра III подписать данный акт (закон 3 мая 1883 года — А.З.) («несмотря на отчаянное противодействие обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева, считавшего раскольников злейшими внутренними врагами Православной церкви») было связано с очевидной необходимостью нормализации отношений с одной из наиболее экономически активных категорий населения Российской Империи» [В.Б.Лебедев. Религиозные преступления в законодательстве Российской империи в XVIII – начале XX вв.: монография. Псков: Псковский юрид. ин-т ФСИН России, 2007. - С.98].
Но, безусловно, главной причиной было не желание дать права экономически активному населению, хотя этот аргумент приводился постоянно, а сам дух Великих реформ, который сохранялся в Государственном совете. Комиссия, созданная Александром II в 1875 году при Валуеве, дала свои рекомендации. Государственный совет оставался вполне либеральным органом, поэтому он, несмотря на требования Победоносцева, принял этот закон. Победоносцев был очень недоволен: Император пошел против его воли, следуя логике государственной целесообразности, — нельзя было в конце ХIХ века отвергать и ставить ы ущемленное положение огромную часть общества.
Победоносцев не смирился с поражением и старался изменить мнение Александра III, во многом у него это получилось. Но важно, что закон исключил понятие «особо вредные секты». Фактически подвергались уголовным преследованиям только те секты, которые занимались членовредительством, агитировали к отказу от брака и к неповиновению властям. Все остальные получили свободу, могли получать паспорта, свободно перемещаться, заниматься торговлей и промыслами, (это касалось даже хлыстов и скопцов), создавать или вступать в иконописные цехи, занимать общественные должности. Старообрядцам разрешили общественные богослужения, хотя учение их по-прежнему считалось вредным, а разрешения обставлялись оговорками, которые позволяли их «до крайности уменьшить или парализовать» [«Вестник Европы» Т.102, СПб. 1883. - С.353].
Закон 1883 года не признавал «раскольничью духовную иерархию», продолжал именовать митрополитов и архиепископов старообрядцев «лже-митрополитами», «лже-архиепископами», однако закрывал глаза на их деятельность.
Закон 1883 года не признавал «раскольничью духовную иерархию», продолжал именовать митрополитов и архиепископов старообрядцев «лже-митрополитами», «лже-архиепископами», однако закрывал глаза на их деятельность.
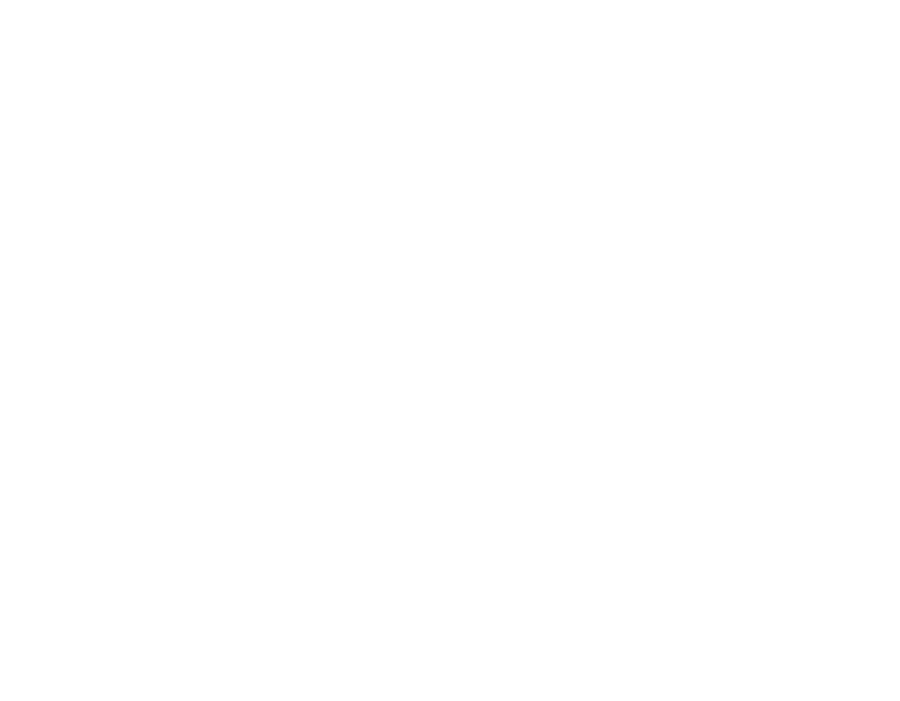
Старообрядческий архиепископ Московский и всея Руси Антоний (Шутов) с диаконом Варлаамом, фотография 1870-х гг.
В церковной среде даже этот закон вызвал очень негативную реакцию. Церковное сообщество боялось старообрядцев совсем не по духовным, а по вполне меркантильным причинам. В официальном печатном органе Синода «Духовном вестнике» заявлялось: «Если раскольникам разрешить действовать беспрепятственно, повсеместно открывать свои храмы, то Древлее Православие (старообрядчество — А.З.) тогда расширится, а настоящее Православие сузится, ограничится в своем объеме, и, чего доброго, займет подобное положение, какое оно занимает в наших западных окраинах», где большинство составляли католики или протестанты.
Благотворительную образовательную деятельность старообрядцев закон 1883 года ограничивал, хотя и не запрещал вовсе. Но на деятельность старообрядческих школ закрывали глаза. Старообрядцам разрешалось творить общественную молитву, исполнять духовные требы по их обрядам в частных домах и в особых молитвенных зданиях, но запрещалось называть их церквями. Закон дозволял исправлять и возобновлять «надлежавшие им часовни и другие молитвенные здания, приходящие в ветхость», однако «наружный вид зданий не должен быть изменяем и не должен иметь облика храма». В частности запрещалось строить колокольни и иметь колокола, поскольку это все считалось публичным доказательством «раскольнической веры». Исправление и восстановление молитвенных раскольнических зданий требовало разрешения властей и создавало почву для коррупции.
Благотворительную образовательную деятельность старообрядцев закон 1883 года ограничивал, хотя и не запрещал вовсе. Но на деятельность старообрядческих школ закрывали глаза. Старообрядцам разрешалось творить общественную молитву, исполнять духовные требы по их обрядам в частных домах и в особых молитвенных зданиях, но запрещалось называть их церквями. Закон дозволял исправлять и возобновлять «надлежавшие им часовни и другие молитвенные здания, приходящие в ветхость», однако «наружный вид зданий не должен быть изменяем и не должен иметь облика храма». В частности запрещалось строить колокольни и иметь колокола, поскольку это все считалось публичным доказательством «раскольнической веры». Исправление и восстановление молитвенных раскольнических зданий требовало разрешения властей и создавало почву для коррупции.
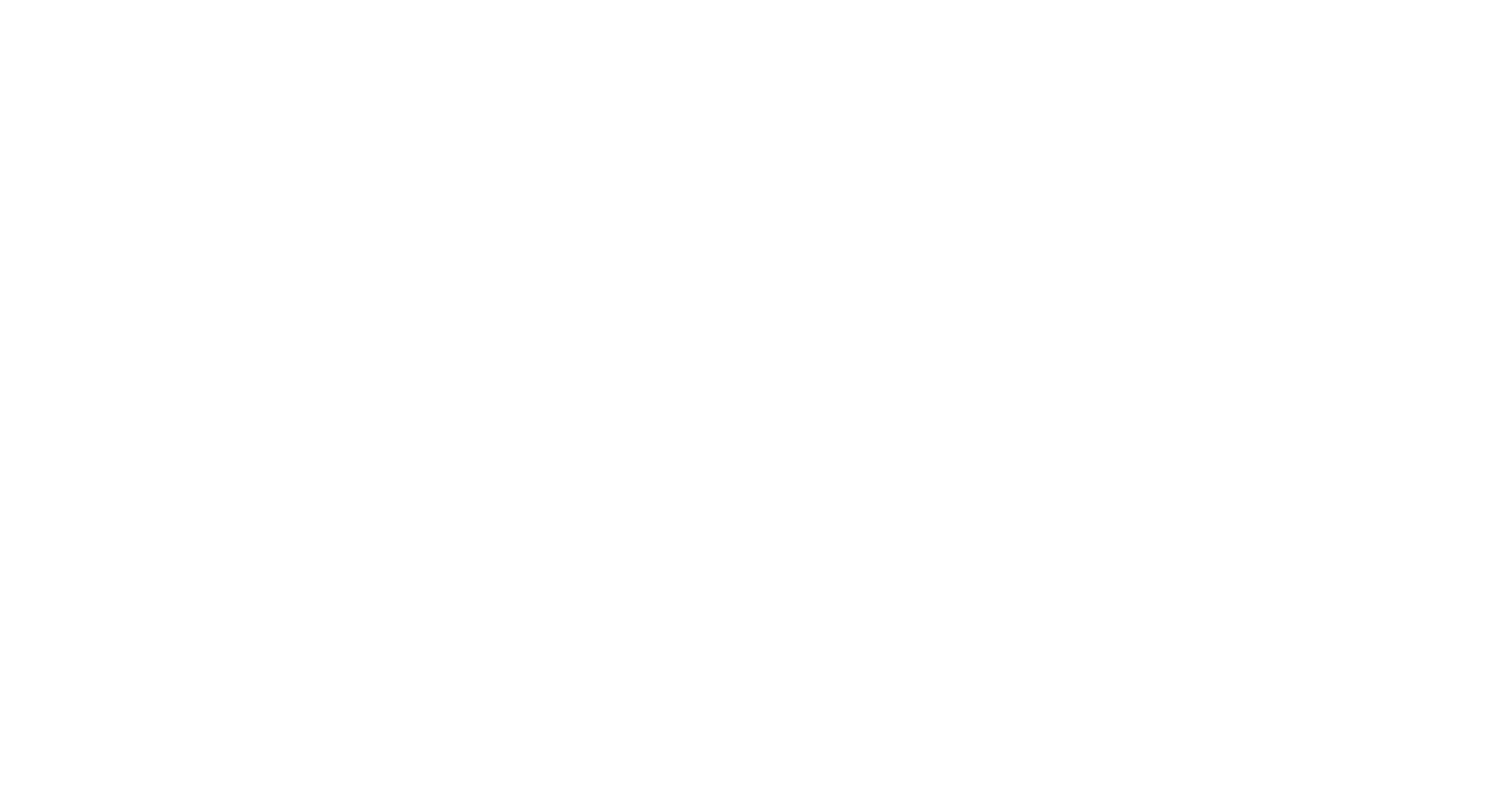
Иргизский старообрядческий монастырь. Рисунок 1830-х годов
Закон 1883 года допускал в исключительных случаях открывать молитвенные здания, запечатанные при Николае I, с разрешения Министерства Внутренних дел, но категорически запрещал распечатывать закрытые скиты, — старообрядческие монастыри. Сохранялся запрет на публичную пропаганду вероучения. Со старообрядческими иконами можно было находиться только на кладбище, публичное раскольническое песнопение на улицах и площадях дозволялось только во время похоронных процессий.
В 1875 году Петр Валуев предлагал более широкие права и четкий принцип светского отношения к старообрядцам и раскольникам. И всё же закон 1883 года стал шагом вперед в части легализации старообрядцев, хотя и сильно был урезан под влиянием Победоносцева и Дмитрия Толстого.
В 1875 году Петр Валуев предлагал более широкие права и четкий принцип светского отношения к старообрядцам и раскольникам. И всё же закон 1883 года стал шагом вперед в части легализации старообрядцев, хотя и сильно был урезан под влиянием Победоносцева и Дмитрия Толстого.
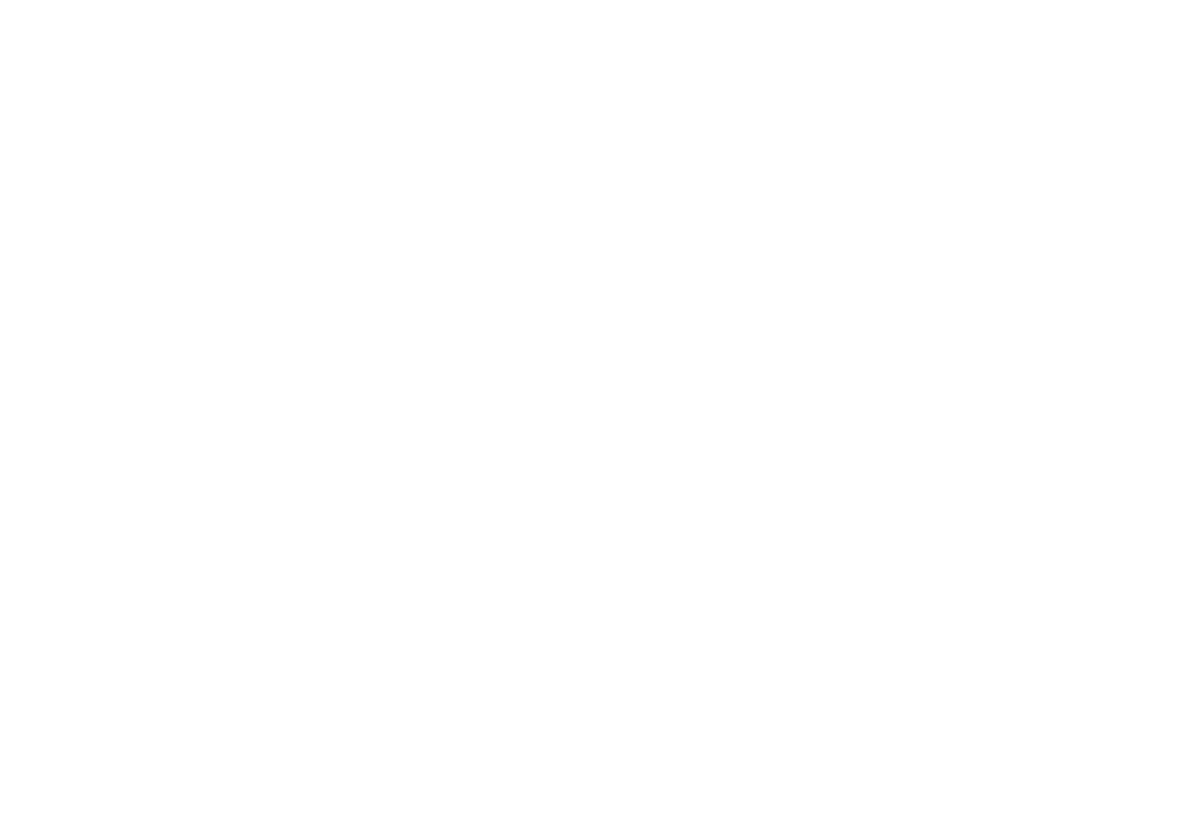
Моленная в Оленевском скиту Нижегородской губернии, фотография конца XIX века
После издания нового закона старообрядцы активизировались. В «Церковном вестнике» писалось: «Вообще в настоящее время старообрядцы чувствуют себя очень хорошо и ведут себя очень смело – сооружают молельни, устраивают алтари, попы их ходят в долгих волосах и почти в такой же одежде, какую носят православные священники, рассылают особых миссионеров для совращения православных в раскол, нимало не опасаясь ответственности за совращение». Указывалось, что только за один год с момента издания указа старообрядцы-поповцы построили 80 новых молелен, а в Замоскворечье даже устроили резиденцию для своего архиерея. Власть не особо им противилась кроме отдельных консервативных её представителей, таких как Победоносцев. Терпимую позицию занял и Император, тем более закон поддержала на местах просвещенная бюрократия и земские деятели, жившие духом Великих реформ. Они хотели не сужать, а расширять свободу всех граждан России, в том числе и старообрядцев, и сектантов.
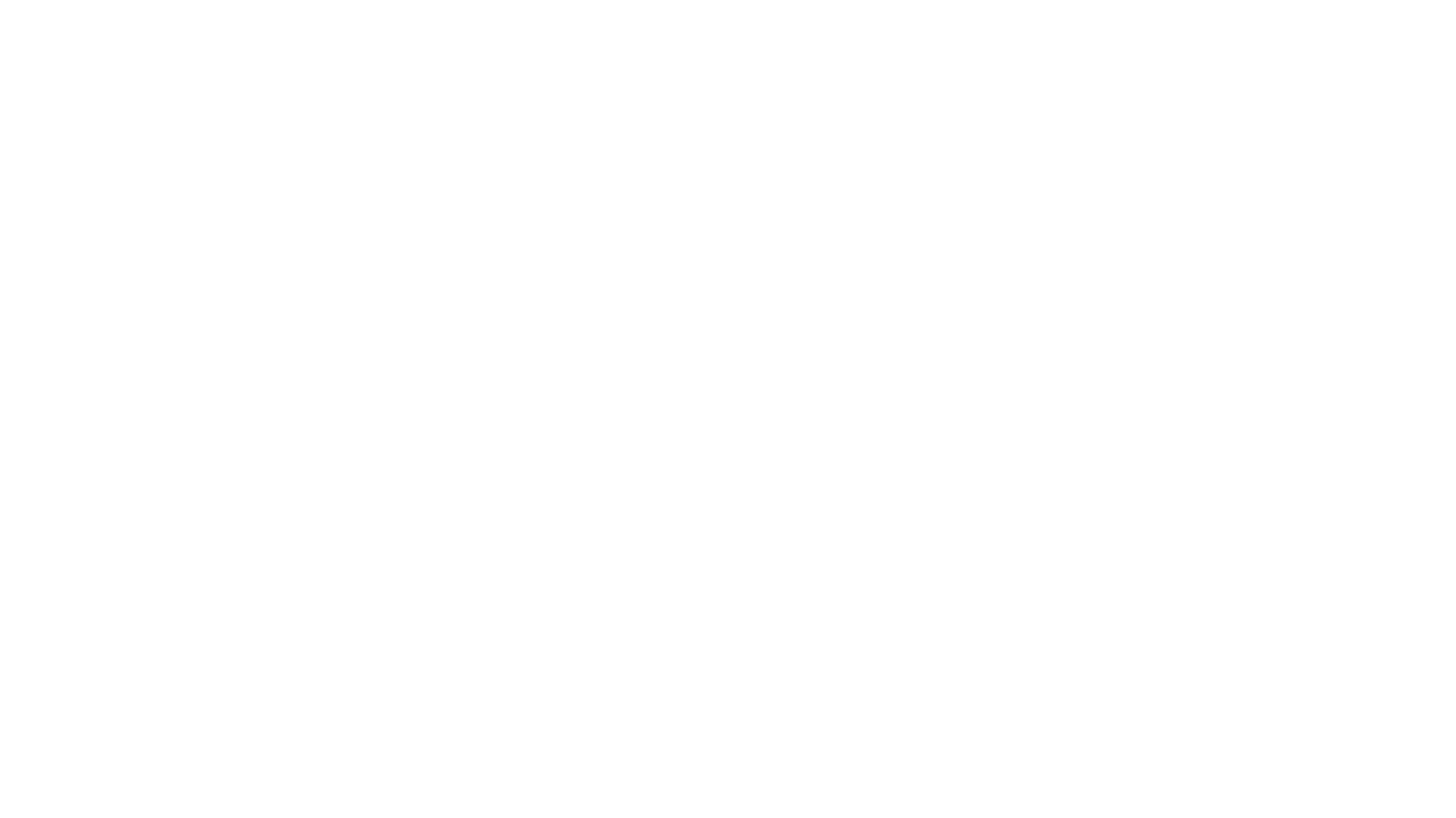
Монахи с настоятелем в Керженском старообрядческом монастыре, фотография 1897 г.
Русская православная церковь тоже поняла, что одними запретительными мерами с раскольниками и сектантами ей не справиться. В июле 1885 года в Казани собрался архиерейский Собор, специально посвященный проблемам распространения Раскола. В его решении говорилось: «Раскол существует во всех вверенных нам епархиях и легко прирождается к православным чадам, а посему нашим архипастырским званием мы почитаем для себя обязанным приложить со своей стороны труды к его врачеванию». Собор требовал обратить особое внимание на подготовку квалифицированных православных священников и наделить их необходимыми знаниями в спорах с раскольниками. Указывалось, что приходской священник является примером для прихожан своим нравственным поведением, порядочностью и вообще всем своим обликом. Священникам предписывалось выполнять службы в церквях с особой торжественностью, привлекая верующих величием православного богослужения, произносить «глубокомысленные проповеди, дабы показать мудрость православной религии». Священники должны чаще находиться среди прихожан и во внеслужебное время, объяснять им смысл религиозных догм. Предполагалось, что само торжественное по всем правилам осуществляемое богослужение должно отвлечь верующих от поползновений уйти в раскол.
6. Разложение Церкви
Таким образом, терпимость к старообрядчеству с одной стороны способствовала его распространению, а с другой — активизировала Русскую Церковь. А Русская Церковь находилась тогда в удручающем состоянии. Православный богослов Сергей Иосифович Фудель вспоминал своего отца, перешедшего из Лютеранства в Православие немца. Тот убедился, что окружающее его православное духовенство западных областей России не соблюдает постов и ограничений, пьянствует, часто развратничает, ничему толком не учит, но берет немалые деньги за все требы. Учащие паству благоговейные священники редко встречались в православной среде, поэтому старообрядчество и сектанство быстро распространялись.
Таким образом, терпимость к старообрядчеству с одной стороны способствовала его распространению, а с другой — активизировала Русскую Церковь. А Русская Церковь находилась тогда в удручающем состоянии. Православный богослов Сергей Иосифович Фудель вспоминал своего отца, перешедшего из Лютеранства в Православие немца. Тот убедился, что окружающее его православное духовенство западных областей России не соблюдает постов и ограничений, пьянствует, часто развратничает, ничему толком не учит, но берет немалые деньги за все требы. Учащие паству благоговейные священники редко встречались в православной среде, поэтому старообрядчество и сектанство быстро распространялись.
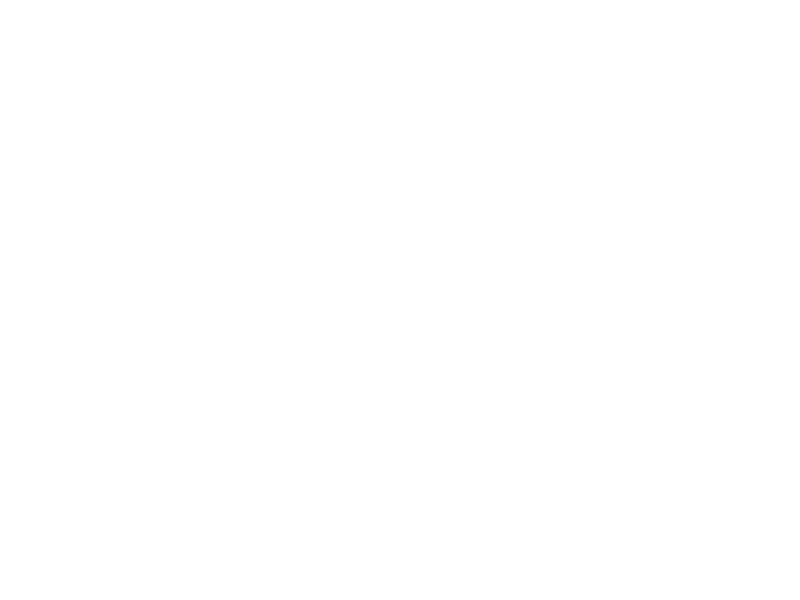
Священник Иосиф Фудель, отец богослова Сергея Фуделя, фотография 1910 г.
В своей статье в «Московском сборнике» Победоносцев признавал: «Наше духовенство мало и редко учит, оно служит в церкви и исполняет требы… В иных глухих местностях народ не понимает решительно ничего ни в словах службы церковной, ни даже в молитве „Отче наш“» [К.П.Победоносцев, Московский сборник. М., 1898. – C.138-139]. Чем же занимались десятки тысяч православных священников и сотни православных епископов в самом конце XIX века?
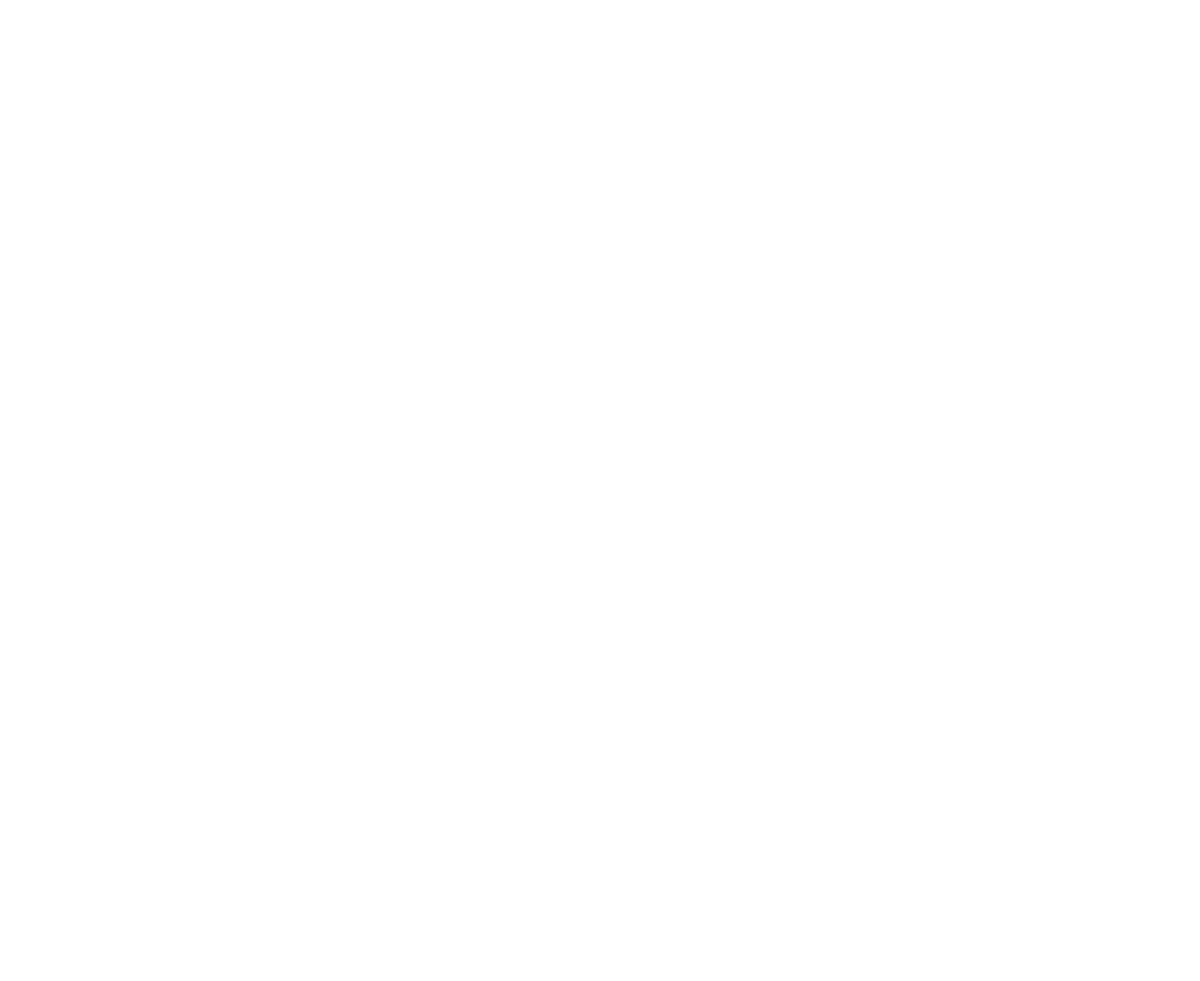
«Монахи», художник Н.Неврев, 1880, Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль»
В это печальное состояние Русская Церковь вошла не из-за притеснений и гонений, а из-за глубокого внутреннего разложения, о чем свидетельствовали сами же архиереи. Например, архиепископ Волынский Агафангел (Соловьев) в 1876 году обратился с таким письмом к императору Александру II: «Государь! Подобное состояние Святой Церкви не может более продолжаться. Если православные миряне внимательно всмотрятся в нынешнюю администрацию Церкви, отпадение от нее будет происходить не десятками, а тысячами и миллионами лиц. Раскол естественно должен увеличиваться» [архиеп. Агафангел (Соловьев). Пленение Русской Церкви: Записка преосвященного Агафангела Волынского и проект всеподданнейшего ходатайства перед Государем Императором. – СПб., 1906. - С. 29–30]
Перед Первой Русской революцией, в январе 1905 года министр земледелия и государственных имуществ Алексей Сергеевич Ермолов так писал Николаю II о роли Русской Церкви в общественной жизни: «Духовенство у нас никакого влияния на население не имеет и само иногда для поддержания Православия обращается к мерам чисто полицейского свойства».
Митрополит Вениамин Федченков, который участвовал в Соборе 1917-18 годов, возглавлял духовенство Белого движения, жил в эмиграции, вернулся в Советский Союз и скончался в Псково-Печерском монастыре, пишет о состоянии Церкви в конце ХIХ - начале ХХ века: «Влияние Церкви на народные массы всё слабело и слабело, авторитет духовенства падал… Вера становилась лишь долгом и традицией, молитва - холодным обрядом по привычке. Огня не было в нас и в окружающих… Как-то всё у нас „опреснилось“, или, по выражению Спасителя, „соль в нас потеряла свою силу“, мы перестали быть „солью земли и светом мира“... Нисколько не удивляло меня ни тогда, ни теперь, что мы никого не увлекали за собою: как мы могли зажигать души, когда не горели сами?... И приходится еще дивиться, как верующие держались в храмах и с нами ... хотя вокруг всё уже стыло, деревенело. А интеллигентных людей мы уже не могли не только увлечь, но и удержать в храмах, в вере, в духовном интересе» [Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. М.: Отчий дом, 2016. – С.168].
Перед Первой Русской революцией, в январе 1905 года министр земледелия и государственных имуществ Алексей Сергеевич Ермолов так писал Николаю II о роли Русской Церкви в общественной жизни: «Духовенство у нас никакого влияния на население не имеет и само иногда для поддержания Православия обращается к мерам чисто полицейского свойства».
Митрополит Вениамин Федченков, который участвовал в Соборе 1917-18 годов, возглавлял духовенство Белого движения, жил в эмиграции, вернулся в Советский Союз и скончался в Псково-Печерском монастыре, пишет о состоянии Церкви в конце ХIХ - начале ХХ века: «Влияние Церкви на народные массы всё слабело и слабело, авторитет духовенства падал… Вера становилась лишь долгом и традицией, молитва - холодным обрядом по привычке. Огня не было в нас и в окружающих… Как-то всё у нас „опреснилось“, или, по выражению Спасителя, „соль в нас потеряла свою силу“, мы перестали быть „солью земли и светом мира“... Нисколько не удивляло меня ни тогда, ни теперь, что мы никого не увлекали за собою: как мы могли зажигать души, когда не горели сами?... И приходится еще дивиться, как верующие держались в храмах и с нами ... хотя вокруг всё уже стыло, деревенело. А интеллигентных людей мы уже не могли не только увлечь, но и удержать в храмах, в вере, в духовном интересе» [Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. М.: Отчий дом, 2016. – С.168].
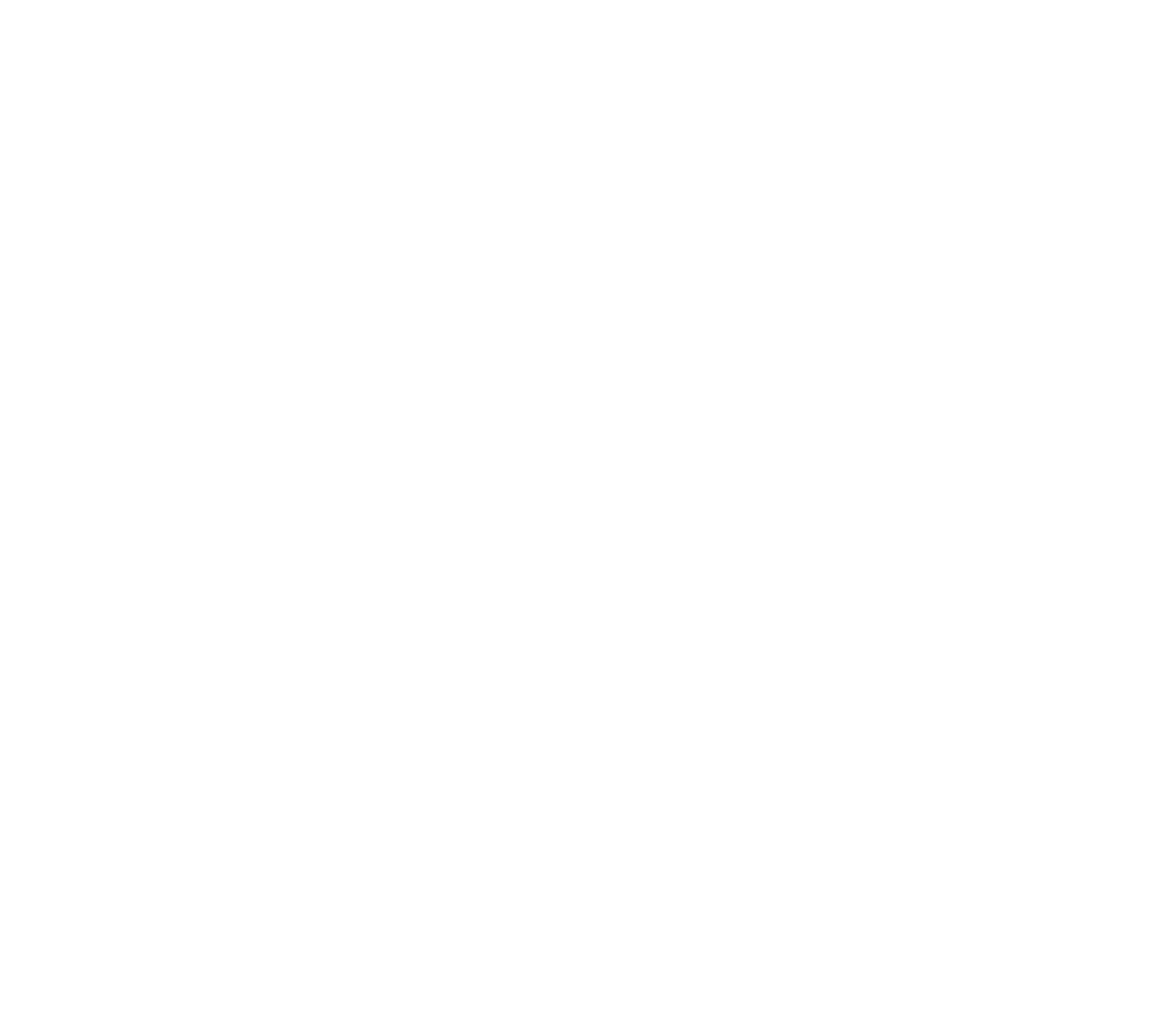
Иеромонах Вениамин (Федченков), фотография 1900-х гг.
Борясь с сектами, государство требовало от граждан православного исповедания, обязательной исповеди и причастия не реже одного раза в год. Игнорирование православными исповеди и причастия рассматривалось как факт нелояльности императору. Государственные служащие должны были ежегодно представлять начальству справку, что были на исповеди и причащались. Разве этим можно увлечь хоть кого-то к Церкви и к спасению? Некоторые священники давали такую справку за три рубля и без совершения таинства. Одни причащались без веры — «для галочки», а другие откупались от причастия. Христианину об этом страшно подумать. Но даже искренне верующие люди причащались Святых Таин не чаще одного-двух раз в год, обычно полагая, что участие в таинстве — «отдание долга Богу», как многие писали в то время. Среди простого народа причастие было и того реже — раз в несколько лет, а то и никогда.
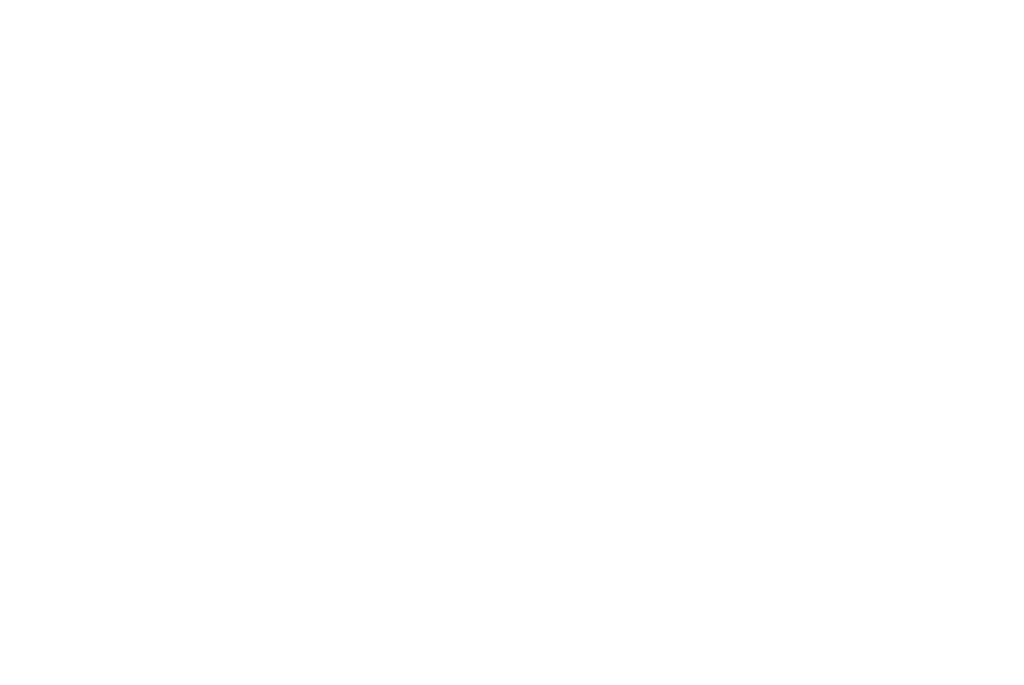
«Перед исповедью», картина художника А.Корзухина, 1877 г.
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Ученые этнографы в концу ХIХ века обнаружили в крестьянской среде так называемых «недароимцев», то есть людей, которые исповедовались у священника ежегодно по требованию власти, но от участия в таинстве Евхаристии уклонялись, объясняя такое поведение своим недостоинством и нечистой жизнью. Возможно, это были тайные сектанты.
Росло число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления религиозного характера. В 1874-1878 годах ХIХ века в 33 губерниях были введены новые судебные учреждения и рассматривалось в среднем за год 316 таких уголовных дел. В следующие 4 года - 1879-1883 — 378 в год, в 1884-1888 гг. — 487 в год, 1889-1893 гг. — 544 в год, а в 1894-1896 — 1077 дел в год по преступлениям религиозного характера. Среди осужденных 52% были православного исповедания, 31% — старообряды, 17% — сектанты [Е.Н.Тарновский, Религиозные преступления в России, «Вестник права», 1899, №4. - С. 1–27].
Росло число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления религиозного характера. В 1874-1878 годах ХIХ века в 33 губерниях были введены новые судебные учреждения и рассматривалось в среднем за год 316 таких уголовных дел. В следующие 4 года - 1879-1883 — 378 в год, в 1884-1888 гг. — 487 в год, 1889-1893 гг. — 544 в год, а в 1894-1896 — 1077 дел в год по преступлениям религиозного характера. Среди осужденных 52% были православного исповедания, 31% — старообряды, 17% — сектанты [Е.Н.Тарновский, Религиозные преступления в России, «Вестник права», 1899, №4. - С. 1–27].
7. Движение евангелистов. Штунда
Нетерпимость по отношению к старообрядцам и сектантам постепенно сменилась ограниченной терпимостью, пределы которой были неопределенными и изменчивыми. Ограничения, наложенные на старообрядцев, было ослабленные при Александре II, вновь юридически ужесточились при Александре III, но при этом их постоянно de facto смягчали общество, бюрократия, общественные и земские организации. К старообрядцам все почти относились с пониманием и тихо саботировали политику государственной власти.
То же самое было и в отношении к рациональным сектам. Дело в том, что кроме старообрядцев, которые основное внимание уделяли обряду, в России начинают распространяться учения, которые отвергают православный обряд как таковой и пытаются вернуть людей «к евангельским истокам». Из этих общин вскоре выросли баптисты. Власть к ним тоже относилась строго, а общество — терпимо.
Историк Александр Корнилов пишет: «возбужденные законом 3 мая 1883 г. надежды должны были быть совершенно оставлены; именно по отношению к сектантам правительство, руководимое в этом случае Победоносцевым, проявляло особую суровость, а подчас даже, можно сказать, и свирепость, преследуя сектантов наиболее чистых и нравственных по своему характеру сект, как, например, пашковцев, толстовцев, духоборцев, штундистов» [А.А. Корнилов. Курс истории России XIX века, — М.: Эксмо, 2019. - С.796]. По букве все было так, а по факту — иначе.
Нетерпимость по отношению к старообрядцам и сектантам постепенно сменилась ограниченной терпимостью, пределы которой были неопределенными и изменчивыми. Ограничения, наложенные на старообрядцев, было ослабленные при Александре II, вновь юридически ужесточились при Александре III, но при этом их постоянно de facto смягчали общество, бюрократия, общественные и земские организации. К старообрядцам все почти относились с пониманием и тихо саботировали политику государственной власти.
То же самое было и в отношении к рациональным сектам. Дело в том, что кроме старообрядцев, которые основное внимание уделяли обряду, в России начинают распространяться учения, которые отвергают православный обряд как таковой и пытаются вернуть людей «к евангельским истокам». Из этих общин вскоре выросли баптисты. Власть к ним тоже относилась строго, а общество — терпимо.
Историк Александр Корнилов пишет: «возбужденные законом 3 мая 1883 г. надежды должны были быть совершенно оставлены; именно по отношению к сектантам правительство, руководимое в этом случае Победоносцевым, проявляло особую суровость, а подчас даже, можно сказать, и свирепость, преследуя сектантов наиболее чистых и нравственных по своему характеру сект, как, например, пашковцев, толстовцев, духоборцев, штундистов» [А.А. Корнилов. Курс истории России XIX века, — М.: Эксмо, 2019. - С.796]. По букве все было так, а по факту — иначе.
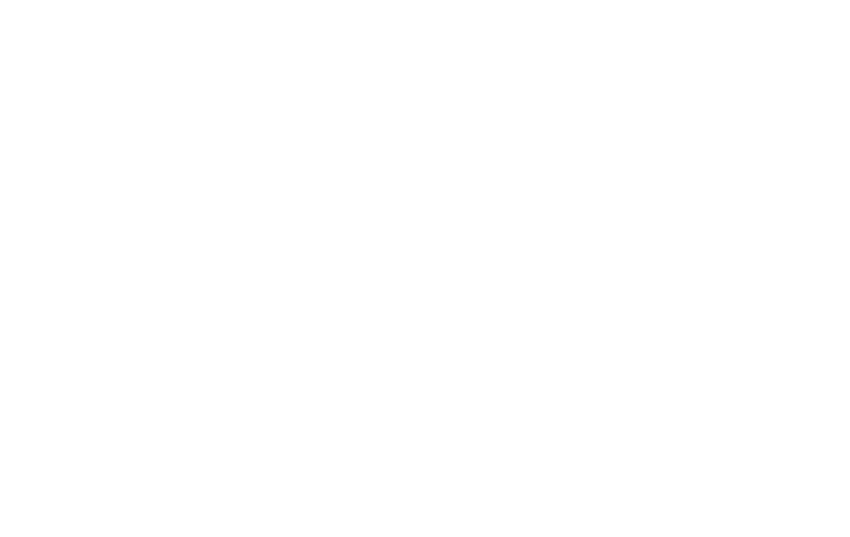
Одни из первых российских штундистов Михаил Ратушный и Иван Рябошапка
Начнем со штундистов. Что такое штунда? Штунда, Stunde — это по-немецки час, час молитвы. Обычай устраивать штундовые собрания был занесен в Россию немецкими колонистами, поселившимися в 1817 году с разрешения Александра I в черноморских степях. Первым проповедником штундизма среди природного русского населения был реформатский пастор Карл Бонек Кемпфер, живший в немецкой колонии Рорбах Херсонской губернии. На его учение откликнулись крестьяне Херсонской губернии Михаил Ратушный и Иван Рябошапка, служившие у немцев-штундистов, затем крестьяне Киевской губернии.
Немецкие лютеране или штундисты приглашали русских участвовать в их богослужениях, в их молитвах. Да, эти богослужения были на немецком языке, но работающие у немцев крестьяне-батраки понимали немецкий и с вдохновением отнеслись к тому, что их наниматели относились к ним как к братьям. Такое отношение стало принципом евангелических движений в России.
Немецкие лютеране или штундисты приглашали русских участвовать в их богослужениях, в их молитвах. Да, эти богослужения были на немецком языке, но работающие у немцев крестьяне-батраки понимали немецкий и с вдохновением отнеслись к тому, что их наниматели относились к ним как к братьям. Такое отношение стало принципом евангелических движений в России.
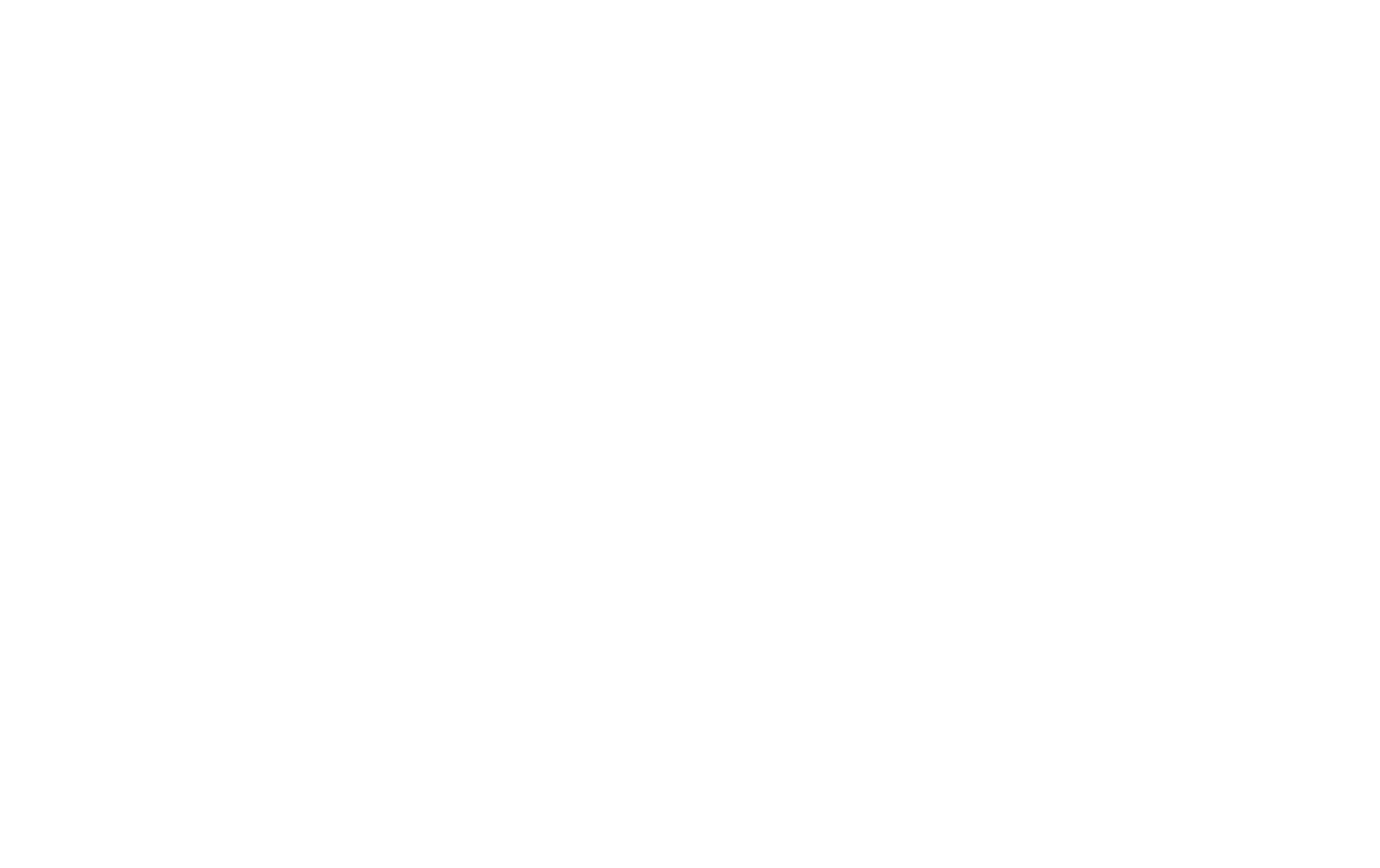
Семья штундистов в Киевской губернии, фотография 1901 г.
Движение штунды и другие евангелические движения резко усилились после публикации Библии на русском языке — это Синодальное издание 1868 года и полная Библия, изданная в 1876 году. Простые русские верующие люди, владевшие грамотой, стали читать Библию, Евангелие, Апостол. Они увидели, что православное духовенство живет совсем не по Евангелию и его принципам. Поэтому они стали собираться и изучать Евангелие и Библию, иногда с немецкими пасторами, иногда самостоятельно. Кружки по изучению Библии среди крестьян стали распространяться сначала по южной части Российской Империи, — это нынешняя Украина, — Херсонская, Екатеринославская, Киевская губернии, а потом по всей России.
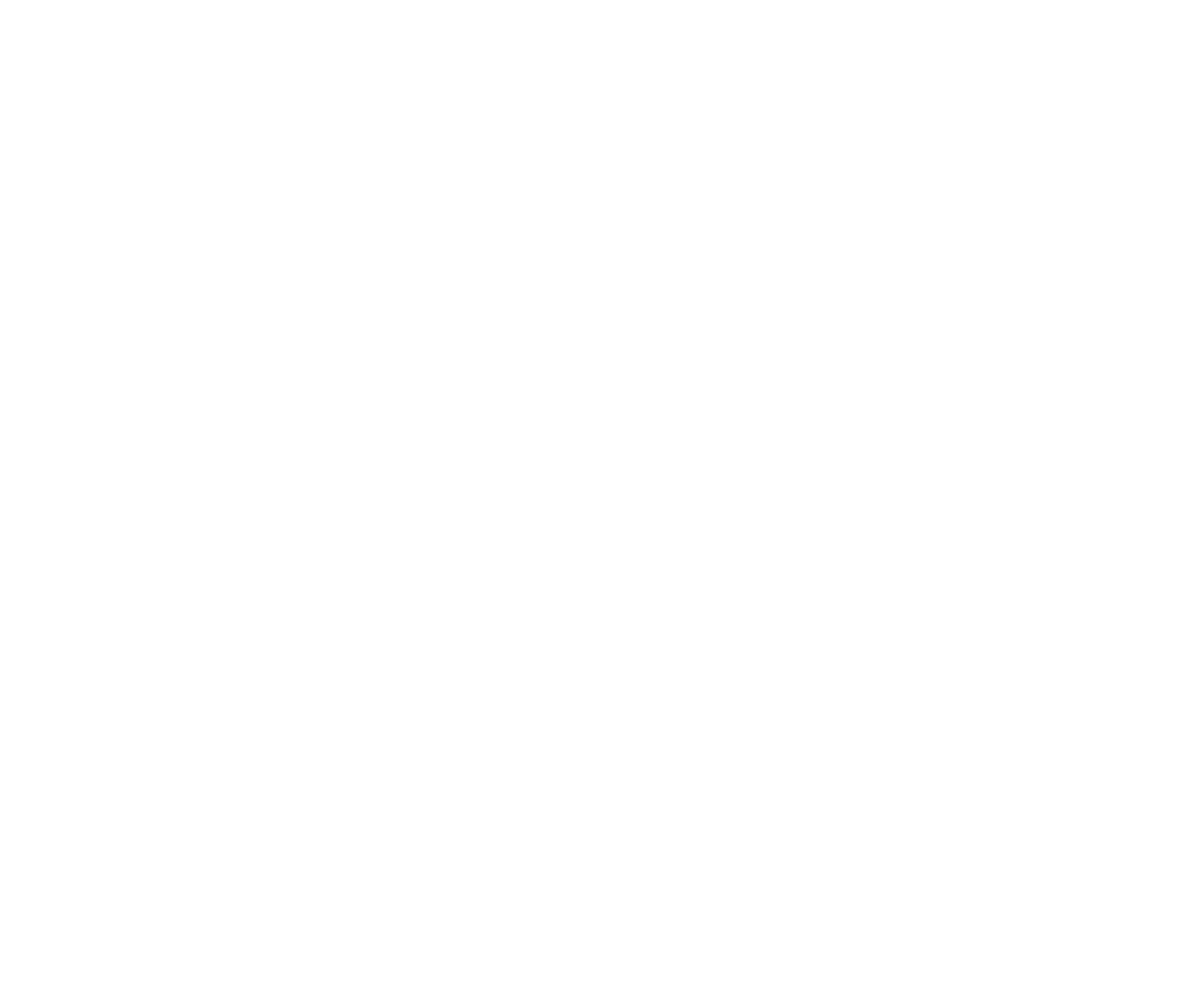
Первый русский баптист Никита Воронин, фотография рубежа XIX-XX вв.
Евангелисты-штундисты считали, что принимать Крещение нужно сознательным и верующим взрослым людям, а не маленьким детям, которые ничего ещё не смыслят в вере, а потом всю жизнь живут не по-христиански. Крещение взрослых — анабаптизм, популярное среди немцев, начинает практиковаться и в России. Первое такое крещение произошло практически в год публикации русской Библии. 20 августа 1867 года немецкий колонист на Кавказе, баптист Мартин Кульвейт крестил Никиту Исаевича Воронина. Никита Воронин происходил из купеческой семьи саратовских чайных торговцев. Он был молоканином. Это религиозное движение возникло в ХVIII веке. На Воронина повлияли библейские проповедники из Европы, в первую очередь книгоноши из Библейского общества шотландец Джон Мельвиль и пресвитерианский миссионер, ассириец по происхождению, Яков Деляков, с которым Воронин познакомился в 1864 году. Яков Деляков вспоминал, что Воронин был ярким молодым человеком, одаренным в речах и очень уважаемым в собрании молокан. Молокане ожидали, что Воронин станет помощником их пастора, а в будущем может стать главным пастором, но Никита Исаевич увлекся новым течением баптизма.
Воронин дважды подвергался преследованиям за свои религиозные взгляды при Александре III — в 1887 и 1894 годах. В 1887 году его и других баптистов-штундистов выслали из Тифлиса. Среди них, кстати, оказался интересный армянский лютеранский проповедник Авраам Амирханьянц. Он родился в мусульманской семье в Персии, но в возрасте шести лет был похищен разбойниками и попал в Шушу к знатному армянину, который его усыновил и дал свою фамилию. Авраам Амирханянц перешел в баптизм, отправился учиться в Ревель, потом в Базель, в Швейцарию. Он открыл евангелическую школу в Шуше, но при Александре III ее закрыли.
Баптистов сначала арестовали посадили в тюрьму, потом сослали в Оренбург под надзор полиции. Жизнь в ссылке не была тяжелой. Воронин приобрел небольшую мельницу. Его друг и единомышленник Павлов занимался земледелием. Амираханянц отдал сыновей в мужскую гимназию, а сам свободно продолжал заниматься научной деятельностью: издавал переводы Библии на армянский язык в Стамбуле, и на азербайджанский язык в Лейпциге, сотрудничал с выдающимися учеными: с академиком Радловым готовил «Словарь тюркских наречий», с профессором Залеманом переводил Новый Завет на узбекский язык, писал труды по истории христианства в семье Чингисхана на основе мусульманских источников. В конце концов, по разрешению заместителя Министра Внутренних дел ему прекратили ссылку и разрешили уехать на международный конгресс в Стокгольм в 1889 году, потом в Христианию (ныне Осло - столица Норвегии). Затем Амирханянц получил разрешение на жизнь в Финляндии. После этого он проповедовал по всей Европе и умер 3 апреля 1913 года в Болгарии, в Варне, где сейчас восстановили памятник на его могиле.
Баптистов сначала арестовали посадили в тюрьму, потом сослали в Оренбург под надзор полиции. Жизнь в ссылке не была тяжелой. Воронин приобрел небольшую мельницу. Его друг и единомышленник Павлов занимался земледелием. Амираханянц отдал сыновей в мужскую гимназию, а сам свободно продолжал заниматься научной деятельностью: издавал переводы Библии на армянский язык в Стамбуле, и на азербайджанский язык в Лейпциге, сотрудничал с выдающимися учеными: с академиком Радловым готовил «Словарь тюркских наречий», с профессором Залеманом переводил Новый Завет на узбекский язык, писал труды по истории христианства в семье Чингисхана на основе мусульманских источников. В конце концов, по разрешению заместителя Министра Внутренних дел ему прекратили ссылку и разрешили уехать на международный конгресс в Стокгольм в 1889 году, потом в Христианию (ныне Осло - столица Норвегии). Затем Амирханянц получил разрешение на жизнь в Финляндии. После этого он проповедовал по всей Европе и умер 3 апреля 1913 года в Болгарии, в Варне, где сейчас восстановили памятник на его могиле.
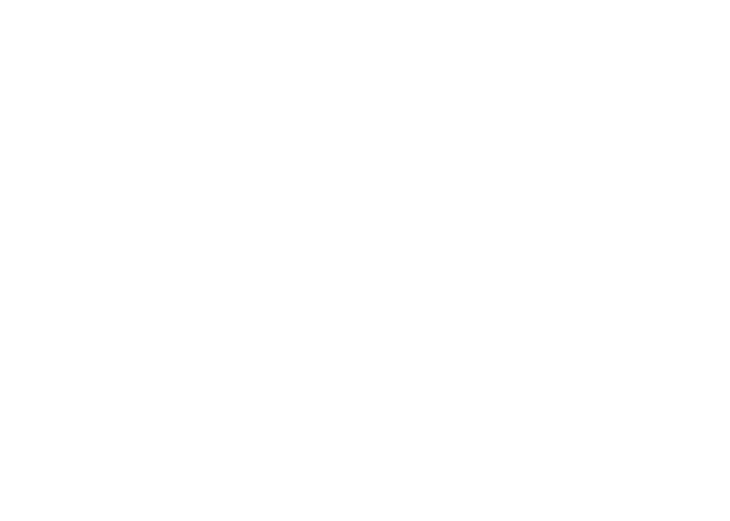
Поселение для ссыльных штундистов в армянском селении, начало XX века
Победоносцев пытался остановить процесс фактического освобождения сектантов. Он добился того, что 4 июля 1894 года, за несколько месяцев до смерти Александра III был принят специальный нормативный акт, который фактически запретил всякую деятельность штундистов на территории Империи. Акт назывался «О Высочайше утвержденном положении Комитета Министров относительно признания штундистской секты наиболее вредной и о воспрещении штундистам общественных молитвенных собраний». Закон совершенно несправедливо приравнивал к хлыстам и скопцам рациональное культурное религиозное движение, члены которого вдумчиво изучали Священное Писание, не пили и придерживались строгих правил в семейной жизни.
При этом, настоящей бедой была взаимная социальная агрессия. Штундисты издевались над православными, называли их идолопоклонниками, а православных священников — фарисеями. Но, по сути, штундисты были вполне лояльными и во многом лучшими гражданами России. После принятие акта 1894 года, Никиту Воронина сослали на пять лет в Вологодскую губернию под надзор полиции. И у штундистов, и духоборов (о духоборах я рассказывал в лекциях об Александре I) правительство даже отнимало детей. Например, пресвитеру общины села Царская Милость Александровского уезда Екатеринославской губернии Григорию Кучугурному, чтобы вернуть в семью четырех детей, отнятых у него и переданных на воспитание в православный сиротский приют, пришлось вернуться в православие, опубликовав подписку об этом в газете «Екатеринославские епархиальные ведомости».
При этом, настоящей бедой была взаимная социальная агрессия. Штундисты издевались над православными, называли их идолопоклонниками, а православных священников — фарисеями. Но, по сути, штундисты были вполне лояльными и во многом лучшими гражданами России. После принятие акта 1894 года, Никиту Воронина сослали на пять лет в Вологодскую губернию под надзор полиции. И у штундистов, и духоборов (о духоборах я рассказывал в лекциях об Александре I) правительство даже отнимало детей. Например, пресвитеру общины села Царская Милость Александровского уезда Екатеринославской губернии Григорию Кучугурному, чтобы вернуть в семью четырех детей, отнятых у него и переданных на воспитание в православный сиротский приют, пришлось вернуться в православие, опубликовав подписку об этом в газете «Екатеринославские епархиальные ведомости».
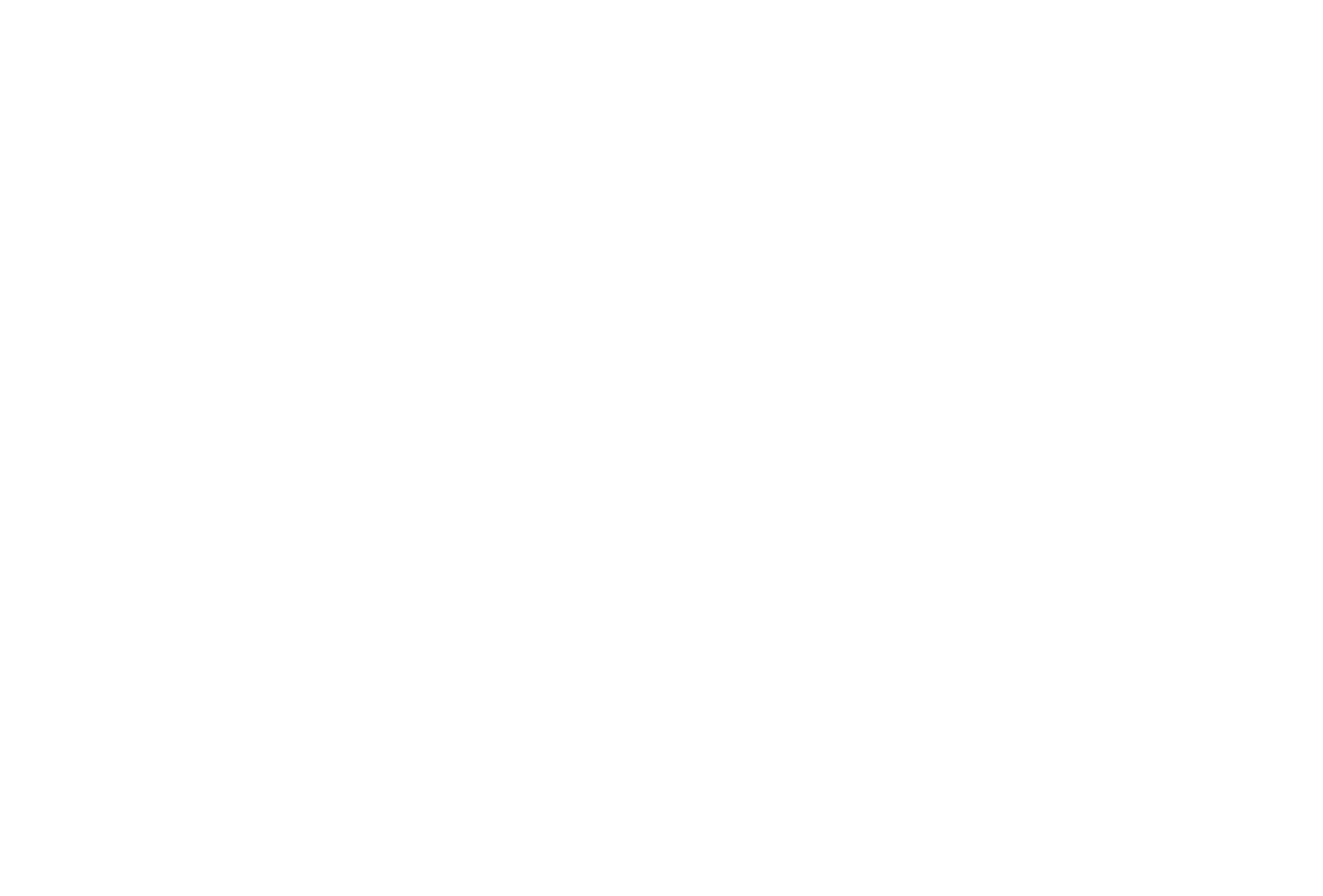
Русские баптисты за чтением святого Писания, Киевская губерния, фотография 1903 г.
О преследованиях властями в Российской империи штундистов и об их страданиях английская писательница Хесба Стреттон в 1894 году написала роман The Highway of Sorrow at the Close of the Nineteenth Century («Дорога страданий на исходе ХIХ столетия»). Ей помогал русский писатель Степняк-Кравчинский. Пастор Келлер в 1895 году издал на немецком языке роман о русских штундистах «Das Salz der Erde» («Соль земли»).
Характерно, что борьба со штундой в сознании Синода и Победоносцева означала борьбу не с духовными поисками, а «с западным засильем». Например, Синод издал листовку под названием «Как дедушка Пахом посрамил штундистов». В сюжете старый русский крестьянин предостерегает молодого кузнеца Вакуленко, присоединившегося к штундистам: «Вы, штундисты, следуете не за Христом, а за германскими учителями, которые оставили Церковь Христову и исказили Благую Весть… Вы рождены православными родителями, воспитаны в православной вере, но соблазнены германцами, пляшете под германскую дудку и даже внешне стали похожими на германцев».
Характерно, что борьба со штундой в сознании Синода и Победоносцева означала борьбу не с духовными поисками, а «с западным засильем». Например, Синод издал листовку под названием «Как дедушка Пахом посрамил штундистов». В сюжете старый русский крестьянин предостерегает молодого кузнеца Вакуленко, присоединившегося к штундистам: «Вы, штундисты, следуете не за Христом, а за германскими учителями, которые оставили Церковь Христову и исказили Благую Весть… Вы рождены православными родителями, воспитаны в православной вере, но соблазнены германцами, пляшете под германскую дудку и даже внешне стали похожими на германцев».
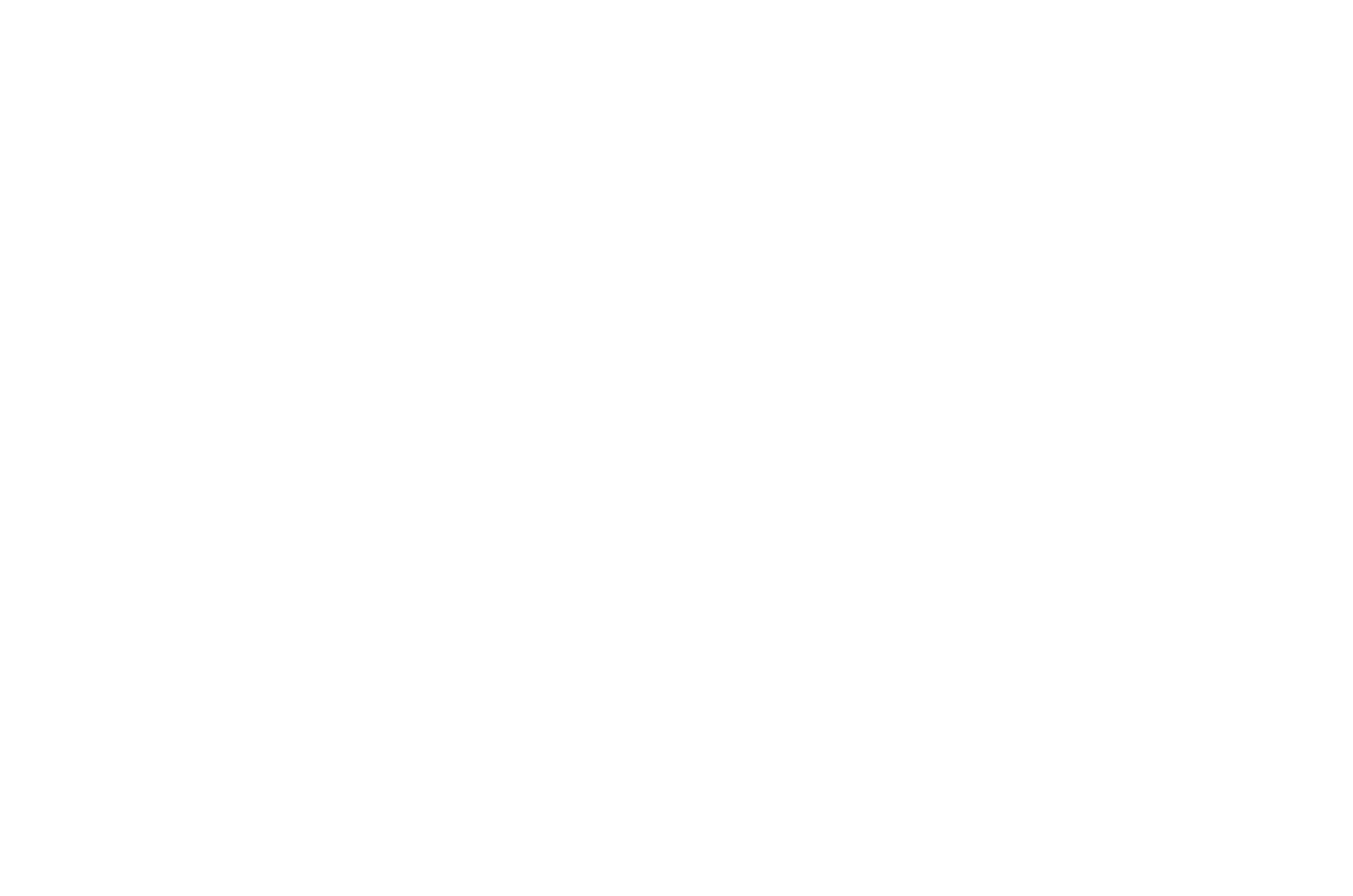
Агитационный лубок «Как дедушка Пахом посрамил штундистов», начало XX в.
Идея национального патриотизма и враждебного России Запада и тогда, в конце ХIХ века, активно эксплуатировалась Русской Церковью, потому что ей было трудно изменить клир, поставить его на один уровень знаний Писания с раскольниками. Отдельные профессора, талантливые священники и ревностные монахи, конечно, были, но их было мало. Поэтому Синоду приходилось прибегать к государеву мечу, о чем Николаю II писал, как вы помните, Министр Земледелия и землепользования.
8. Секта аристократов
Особое и интересное место среди русских евангелических движений занимали так называемые пашковцы. Русская Церковь не удовлетворяла и аристократию. Нужно было быть Александром I и иметь особый духовный талант, чтобы увидеть бесценное духовное ядро Церкви. А обычные светские люди, хоть и культурные, образованные, понимали, что к священникам и епископам по многим духовным проблемам не обратишься. Кто-то ездил в Оптину пустынь, искал советов старцев (к этому Победоносцев тоже относился скептически), другие искал советов у Иоанна Кронштадтского, а очень многие присматривались к западным проповедникам.
По приглашению одной из столичных аристократок — Елизаветы Ивановны Чертковой, урожденной графини Чернышевой в Петербург приехал из Англии сэр Грэнвиль Уолдгрейв, 3-й барон Редсток, пэр Ирландии.
Особое и интересное место среди русских евангелических движений занимали так называемые пашковцы. Русская Церковь не удовлетворяла и аристократию. Нужно было быть Александром I и иметь особый духовный талант, чтобы увидеть бесценное духовное ядро Церкви. А обычные светские люди, хоть и культурные, образованные, понимали, что к священникам и епископам по многим духовным проблемам не обратишься. Кто-то ездил в Оптину пустынь, искал советов старцев (к этому Победоносцев тоже относился скептически), другие искал советов у Иоанна Кронштадтского, а очень многие присматривались к западным проповедникам.
По приглашению одной из столичных аристократок — Елизаветы Ивановны Чертковой, урожденной графини Чернышевой в Петербург приехал из Англии сэр Грэнвиль Уолдгрейв, 3-й барон Редсток, пэр Ирландии.
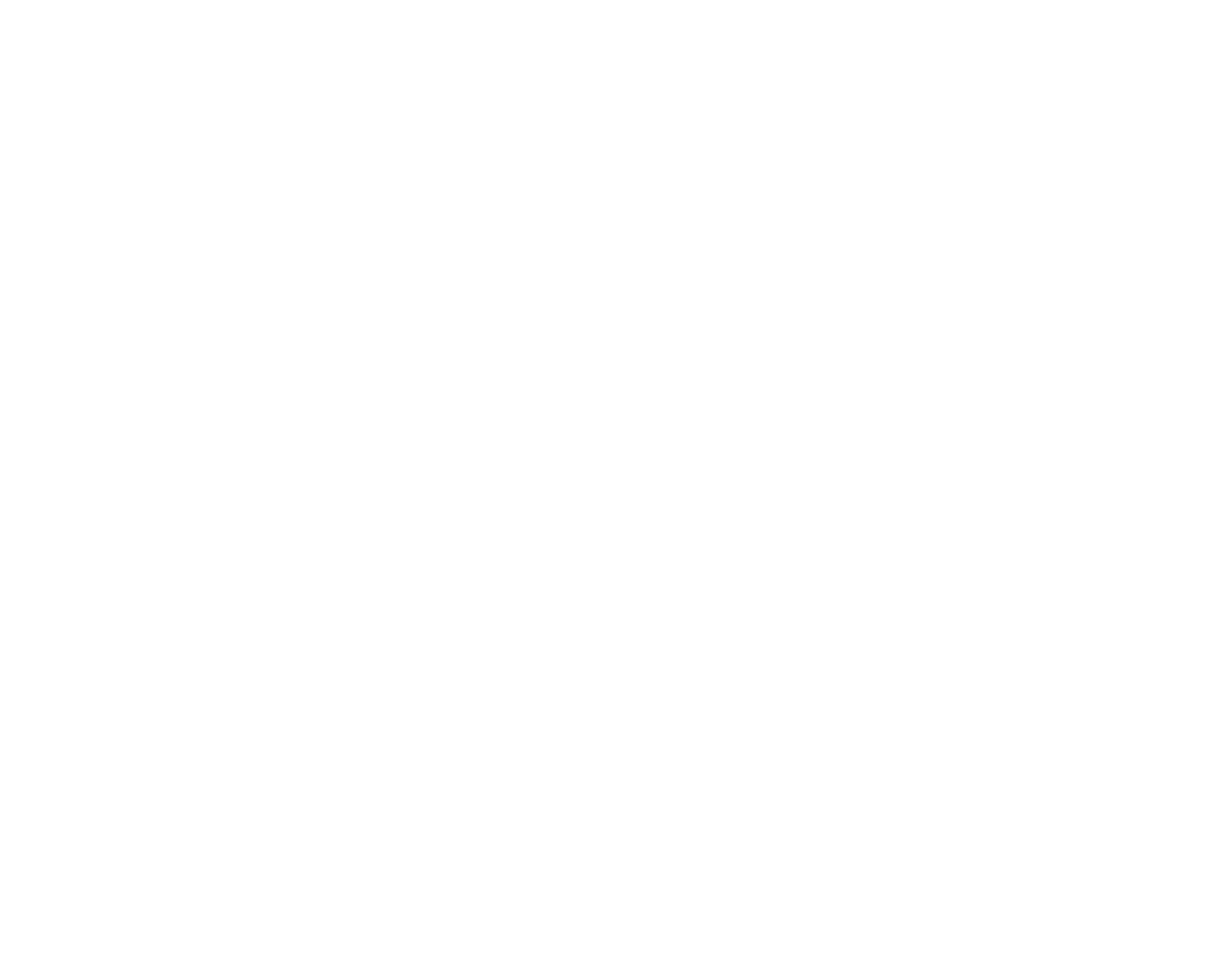
Елизавета Черткова, фотограф — Андре-Адольф-Эжен Дисдери, 1860 г.
Елизавета Черткова прошла через большие страдания. Ее дети умерли в Англии, но там же она познакомилась с Редстоком — проповедником евангелического христианства. Главный пункт учения Редстока заключался «в оправдании человека верой в искупительную смерть Иисуса Христа». Барон Редсток принадлежал к высшей аристократии, он, сын вице-адмирала Грэнвила Уолдигрейва, был женат на дочери пятого герцога Манчестерского Сюзан Келкрафт. Редсток участвовал в так называемом «религиозном пробуждении», в деятельности Плимутского братства.
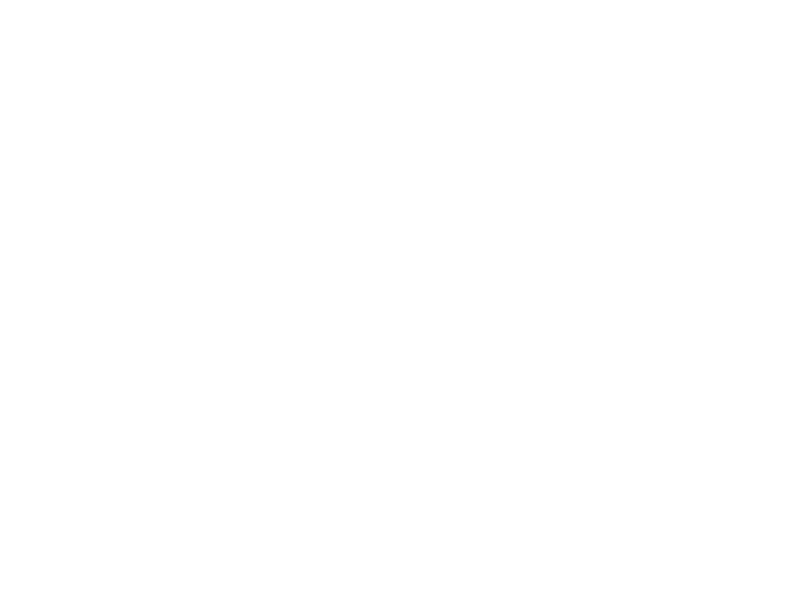
Гренвиль Вальдингев Редсток, фотография середины XIX в.
Барон Редсток приезжает в Россию в 1873 году и организует примерно то же, что было создано в ХVIII веке в Германии, где в то время обрело новую жизнь протестантское движение Богемских братьев. Его участников называли гернгутерами. В России появилось подобное движение, проповедующее полное равенство и помощь богатых бедным. Духовный вакуум оказался настолько силен, что немалое число русских аристократов обратилось по проповеди Редстока в Евангелическое учение. Они раздавали свои земли крестьянам, уже лично свободным, но безземельным или малоземельным, создавали больницы, издавали газеты для рабочих, строили школы для малоимущих и малограмотных, оказывали большую частную благотворительность.
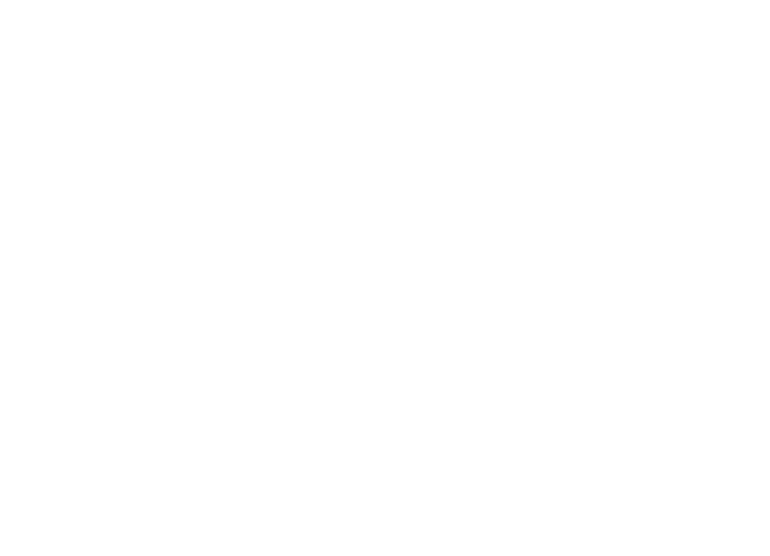
Известные пашковцы: Вера Гагарина
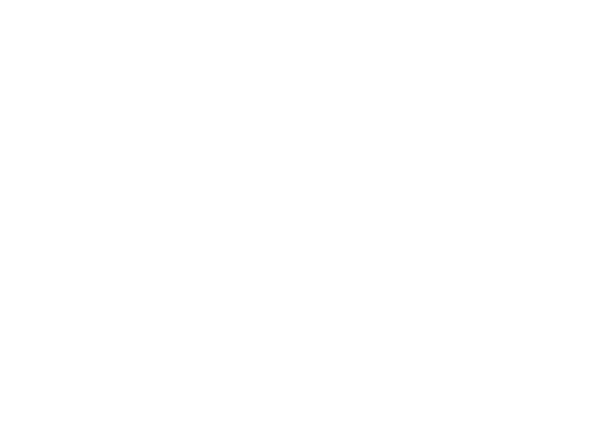
Известные пашковцы: Модест Корф
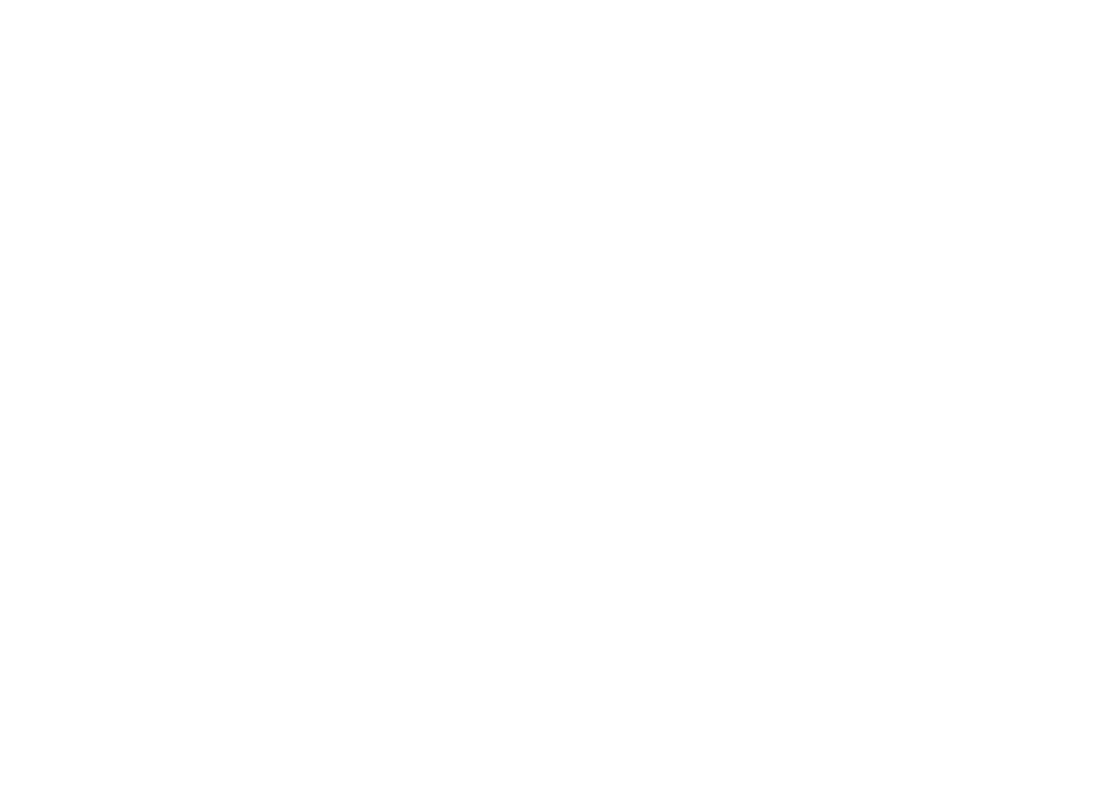
Известные пашковцы: Алексей Бобринский
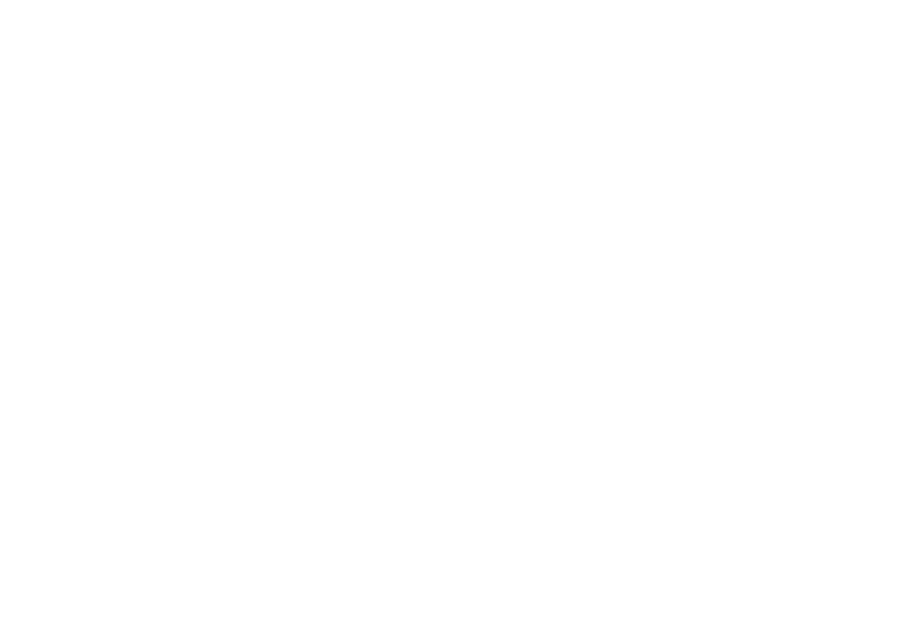
Известные пашковцы: Наталья Ливен
Редсток уехал из России через пять лет, но многие аристократы стали на всю жизнь последователями его учения и продолжали свою религиозную деятельность даже за границей, вынужденно покинув Россию. Среди них — княгиня Наталья Ливен; княгиня Вера Федоровна Гагарина, в девичестве графиня Пален, граф Алексей Павлович Бобринский. Бобринские — потомки Екатерины II. Алексей Бобринский — Министр Путей сообщения в 1871-1874 годах, крупный сахарозаводчик генерал-лейтенант свиты Его Императорского Величества. Он жил в усадьбе Богородицк в Тульской губернии. В 1884 году граф Алексей Бобринский был выслан из России и умер в Каннах во Франции в 1894. Церемониймейстер Двора граф Модест Модестович Корф, сын Модеста Андреевича Корфа, о котором много говорилось в лекциях о времени Александра I и Николая I. Корфа тоже выслали из России, он умер в Базеле в 1933 году, прожив почти 100 лет. И, наконец, имя движению дал полковник лейб-гвардии Василий Александрович Пашков. Дом Пашкова в Москве — дом одного из его предков. Полковник Пашков входил в пятерку крупнейших частных землевладельцев Российской Империи, имел 450 тысяч десятин земли. С женой и детьми он жил в большом доме на Французской набережной в Петербурге и вел активную светскую жизнь. Балы в его доме посещали даже члены царской фамилии. Вот как его описывали современники: «красивый брюнет, роста выше среднего, с манерами и обращением чистого аристократа, приятный мягкий тенор, большие, выразительные глаза». Огромные деньги Пашков отпускал на проповедь Евангелия, заказывал в Англии допечатки обычной Синодальной Библии и распространял ее среди простых людей.
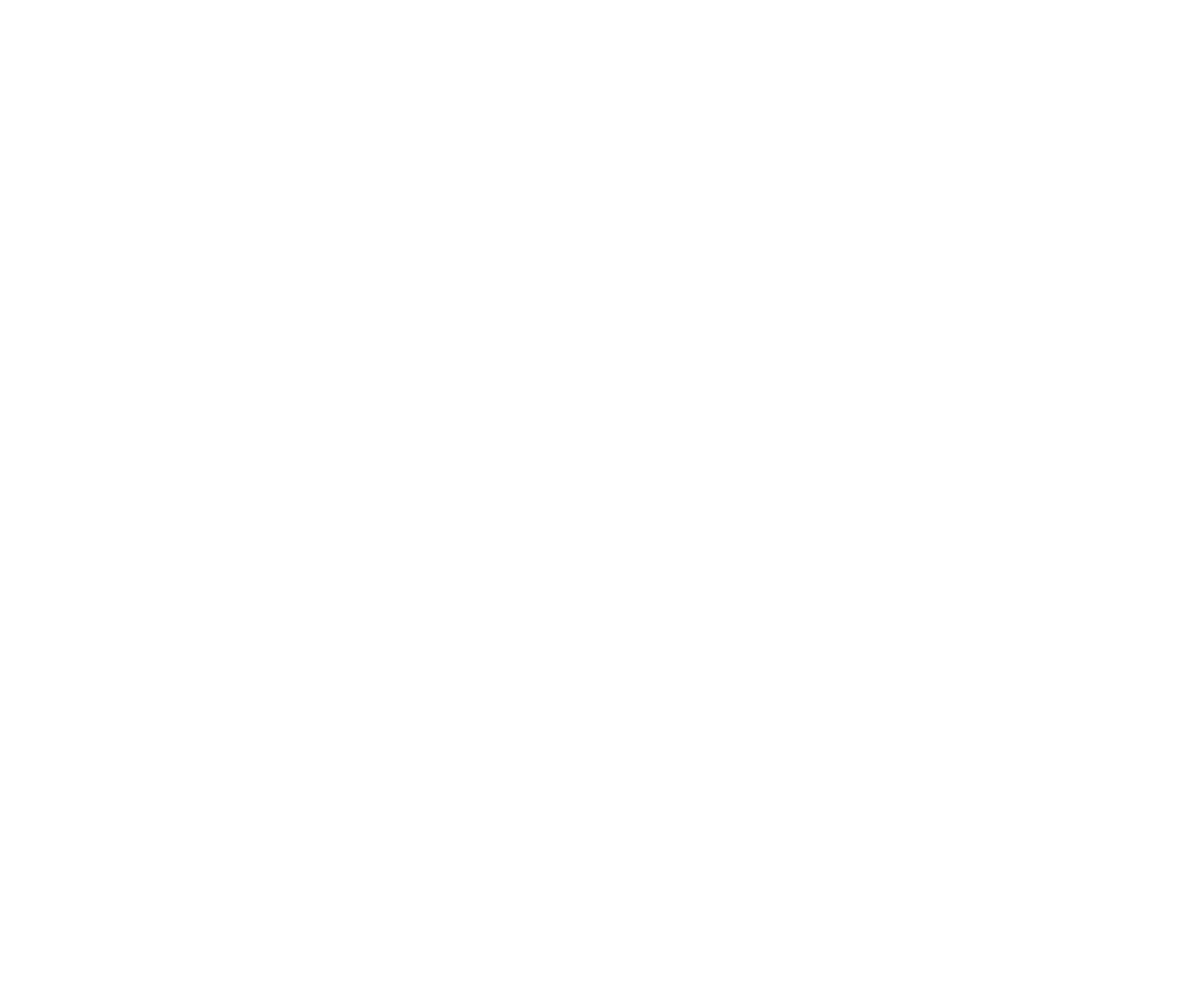
Василий Алексеевич Пашков, фотография 1902 г.
Среди пашковцев — дочь героя войны 1812 года Дениса Давыдова — Юлия Засецкая; графиня Елена Ивановна Шувалова (урожденная Черткова, по матери — баронесса Строганова — А.З.). Ее второй муж — Петр Андреевич Шувалов — блестящий офицер, шеф жандармов, ближайший сподвижник Александра II, за что Тютчев называл его «Петром IV» - «Над Россией распростертой встал внезапною грозой Петр, по прозвищу четвертый, Аракчеев же второй». Сам Шувалов не участвовал в молитвах, но помогал жене вызволять арестованных и сосланных штундистов и иных евангелистов. Собрания общины часто проходили в подвальной комнате дома Шуваловых на Миллионной улице в Петербурге. Комнату занимал кучер Шуваловых и проповедник Василий Ларионов. Кучер обладал большим авторитетом, чем графиня Елена Шувалова. Когда она совершила какой-то, с точки зрения пашковцев, аморальный поступок, ее на долгое время отлучили от причастия, графиня смиренно сидела в уголке во время службы и братской трапезы и только просила, чтобы ее не перестали считать сестрой. А ведь от нее и ее мужа зависела безопасность и благополучие всей общины. Вот как о Шуваловой вспоминала Софья Ливен: «Это была умная и оригинальная личность. Внешне она не имела вида отделившегося от мира человека, но внутренне была определенно Христова…» [С.П. Ливен «Духовное пробуждение в Петербурге», биографическая повесть. – Киев: Свет на Востоке, 2016].
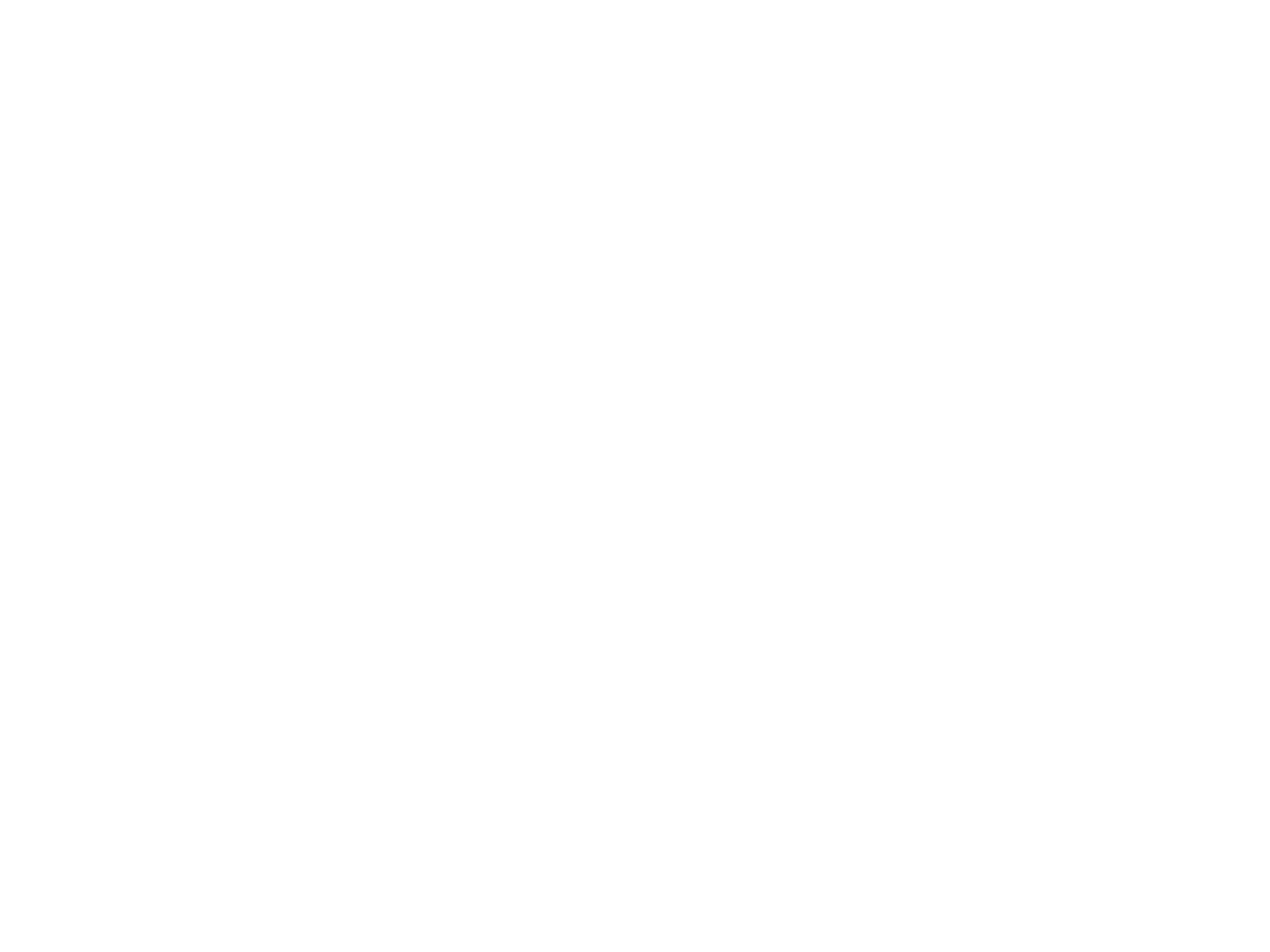
Дворец Шуваловых в Санкт-Петербурге, фотография 2011 г.
Характеристику графине дал также Лев Толстой в романе «Воскресение». Там она выведена под именем графини Чарской, тети князя Нехлюдова, его прототипом считается Владимир Чертков: «Графиня Катерина Ивановна, как это ни странно было и как ни мало это шло к ее характеру, была горячая сторонница того учения, по которому считалось, что сущность христианства заключается в вере в искупление. Она ездила на собрания, где проповедовалось это бывшее модным тогда учение, и собирала у себя верующих».
У Петра Шувалова, ее мужа, была своя история, связанная с протестантами. Трудившийся в Петербурге лютеранский пастор Дальтон, вспоминал потом, что когда у младшего брата Петра Шувалова, Павла, в 1869 году умерла жена, граф Петр попросил Дальтона прийти в дом брата, чтобы как-то его утешить. Пастор Дальтон удивился этой просьбе, поскольку она исходила от православного человека. На вопрос пастора Петр Шувалов, один из самых влиятельных людей Империи, ответил: «Господин пастор, наши попы хороши для литургии, но утешить народ они не могут; для этого нужны евангелисты». Дальтон выполнил просьбу. После этого его не раз приглашали в дом Павла Шувалова для чтения и обсуждения Библии.
У Петра Шувалова, ее мужа, была своя история, связанная с протестантами. Трудившийся в Петербурге лютеранский пастор Дальтон, вспоминал потом, что когда у младшего брата Петра Шувалова, Павла, в 1869 году умерла жена, граф Петр попросил Дальтона прийти в дом брата, чтобы как-то его утешить. Пастор Дальтон удивился этой просьбе, поскольку она исходила от православного человека. На вопрос пастора Петр Шувалов, один из самых влиятельных людей Империи, ответил: «Господин пастор, наши попы хороши для литургии, но утешить народ они не могут; для этого нужны евангелисты». Дальтон выполнил просьбу. После этого его не раз приглашали в дом Павла Шувалова для чтения и обсуждения Библии.
Вот как вспоминает о вдохновителе пашковцев — миссионере Редстоке писатель Николай Семенович Лесков: «Он рыжеват, с довольно приятными, кроткими, голубыми глазами… Взгляд Редстока чист, ясен, спокоен. Лицо его по преимуществу задумчиво, но иногда он бывает очень весел и шутлив и тогда смеется и даже хохочет звонким и беспечным детским хохотом. Манеры его лишены всякой изысканности… Привет у него при встрече со знакомым заученный и всегда один и тот же — это: „Как вы себя душевно чувствуете?“ — Затем второй вопрос: „Что нового для славы имени Господня?“ Потом он тотчас же вынимает из кармана Библию и, раскрыв то или другое место, начинает читать и объяснять читаемое. Перед уходом из дома, прежде чем проститься с хозяевами, он становится при всех на колени и громко произносит молитву своего сочинения, часто тут же импровизированную: потом он приглашает кого-нибудь из присутствовавших прочесть другую молитву и, слушая её, молится… Молитва всегда обращается к Богу-Отцу, к Троице или к Иисусу Христу, и никогда ни к кому другому, так как призывание Св. Девы, апостолов и святых лорд Редсток не признает нужным и позволительным… В молитвах, кроме прошений, слышится иногда восторженный лепет хвалы… Это лепет страстного экстаза души влюбленной»
[Н.С.Лесков. Великосветский раскол: Лорд Редсток, его учение и проповедь. М.: Университетская типография, 1877].
[Н.С.Лесков. Великосветский раскол: Лорд Редсток, его учение и проповедь. М.: Университетская типография, 1877].
Федор Михайлович Достоевский, который был, как известно, националистически настроенным, православным человеком, написал о Редстоке более сдержанно, но тоже характерно: «Мне случилось его тогда слышать в одной „зале“, на проповеди, и, помню, я не нашел в нем ничего особенного: он говорил ни особенно умно, ни особенно скучно. А между тем он делает чудеса над сердцами людей; к нему льнут; многие поражены: ищут бедных, чтоб поскорей облагодетельствовать их, и почти хотят раздать свое имение. Впрочем, это может быть только у нас в России» [Ф.М.Достоевский, Дневник писателя за 1876 год, СПб, Типография Ю.Штарфа (И.Фишона), 1879].
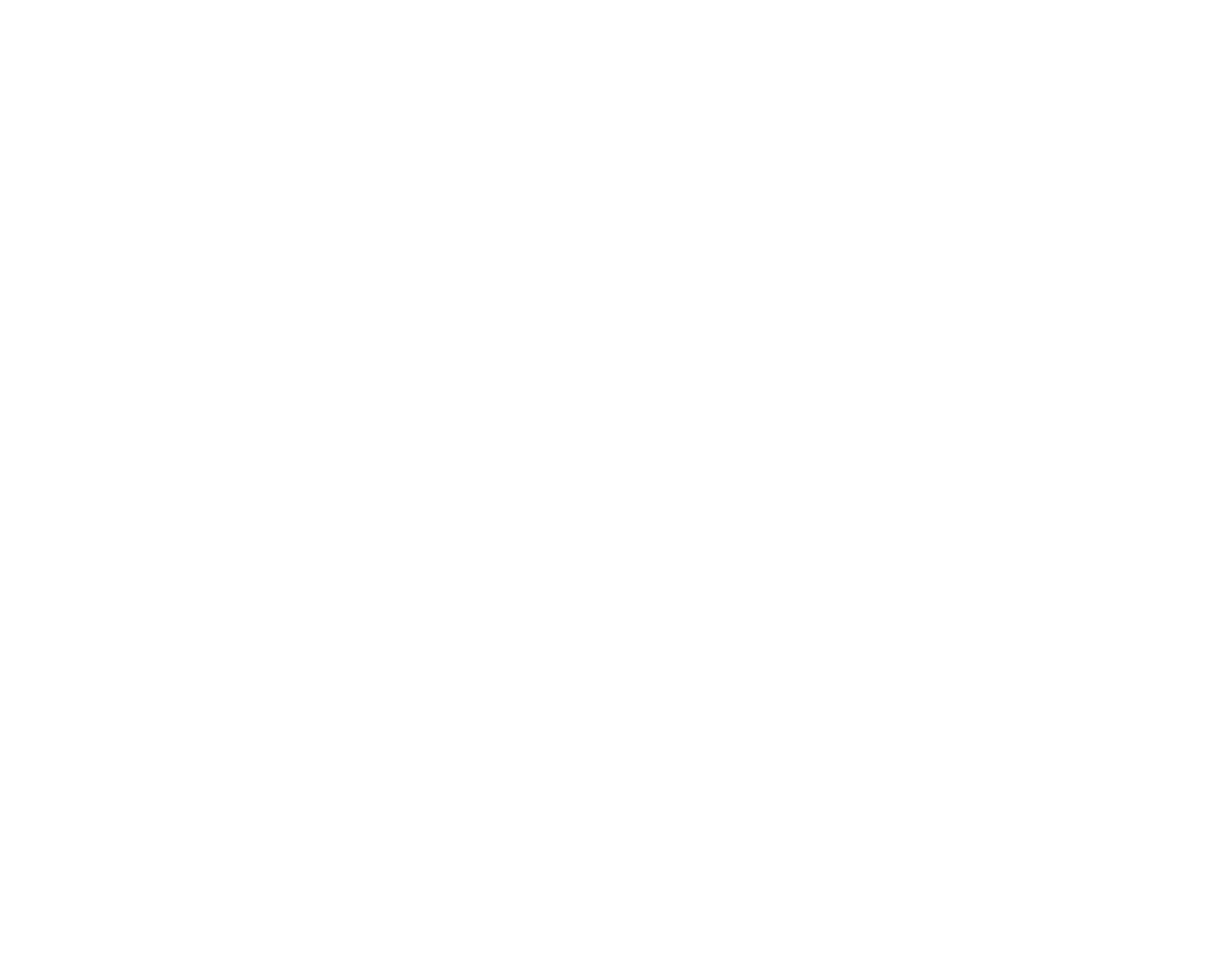
Бесплатная раздача книг Обществом поощрения духовно-нравственного чтения
Нет, не только в России. Проповедь евангельского учения, в том числе самого Редстока, звучала по всей Европе и Востоку. Редсток ездил даже в Индию и повсюду находил отклик. Кстати, привычка к общей молитве на коленях после чтения Библии обратила самого полковника Пашкова. Когда Пашков без всякого желания, будучи человеком светским и чуждым христианства, из вежливости встал на колени, когда все молились, он вдруг почувствовал, что все слышанное им из Библии, касается его лично. Аристократ пережил духовное потрясение. «Встав с колен, он был уже не тем, что раньше, он стал новым человеком во Христе Иисусе». В 1894 году Пашкова выслали из России, он умер в Париже в 1902 году.
Редсток часто говорил: «Адам, где Ты?» Услышав этот вопрос Елизавета Черткова стала евангельской христианкой, потому что она стала примерять к себе «где я?», и она поняла, что она где угодно, только не со Христом, и началась ее новая жизнь.
Редсток часто говорил: «Адам, где Ты?» Услышав этот вопрос Елизавета Черткова стала евангельской христианкой, потому что она стала примерять к себе «где я?», и она поняла, что она где угодно, только не со Христом, и началась ее новая жизнь.
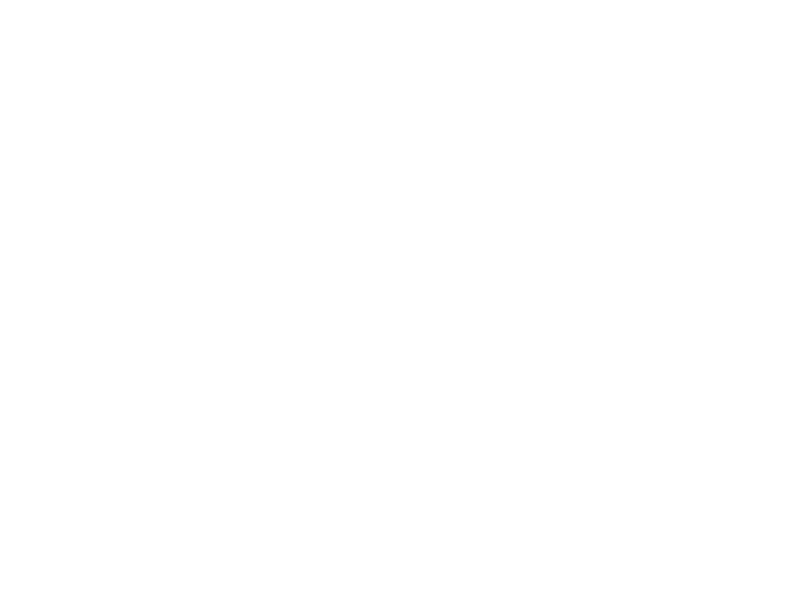
Петр Валуев, СПб. : тип. и лит. А. Мюнстера, 1860-е гг.
В 1878 году появились общины и в Москве. Их создавала Светлана Владимировна Васильева и графиня Елена Шувалова. Миссионерская деятельность охватила Московскую, Тверскую, Тульскую, Нижегородскую, Псковскую и другие губернии России.
Появилось общество поощрения духовно-нравственного чтения. За период с 1876-1884 года оно издало 200 наименований литературы, включая творения Святых отцов. Они распространялись бесплатно или по низкой цене. В 1882 году на средства Пашкова Британское Библейское общество напечатало несколько тысяч экземпляров русской Синодальной Библии. В Петербурге Пашков стал издавать журнал «Русский рабочий». Евангелисты помогали заключенным, создавали рабочие места для нуждающихся женщин: пошивочные мастерские, прачечные; открывали дешевые столовые для студентов и рабочих, детский дом для детей всех исповеданий.
Появилось общество поощрения духовно-нравственного чтения. За период с 1876-1884 года оно издало 200 наименований литературы, включая творения Святых отцов. Они распространялись бесплатно или по низкой цене. В 1882 году на средства Пашкова Британское Библейское общество напечатало несколько тысяч экземпляров русской Синодальной Библии. В Петербурге Пашков стал издавать журнал «Русский рабочий». Евангелисты помогали заключенным, создавали рабочие места для нуждающихся женщин: пошивочные мастерские, прачечные; открывали дешевые столовые для студентов и рабочих, детский дом для детей всех исповеданий.
9. Гонения на евангелистов
Все это было запрещено в 1884 году. Но еще до этого, 1 апреля 1884 года, по инициативе Пашкова, собрался первый объединительный съезд евангельских христиан, куда пригласили также представителей баптистов, штундистов, меннонитов, молокан-захаровцев, всего около ста участников. На съезде обсуждали возможность объединения и совместной деятельности. 6 апреля съезд прервала полиция, многих делегатов арестовали, но позднее обвинения были сняты. От Пашкова и Корфа потребовали прекратить любые формы проповеди. После отказа их выслали из страны. Высочайшим повелением 24 мая 1884 года было закрыто Общество поощрения духовно-нравственного чтения, созданное пашковцами в 1874 году.
Все это было запрещено в 1884 году. Но еще до этого, 1 апреля 1884 года, по инициативе Пашкова, собрался первый объединительный съезд евангельских христиан, куда пригласили также представителей баптистов, штундистов, меннонитов, молокан-захаровцев, всего около ста участников. На съезде обсуждали возможность объединения и совместной деятельности. 6 апреля съезд прервала полиция, многих делегатов арестовали, но позднее обвинения были сняты. От Пашкова и Корфа потребовали прекратить любые формы проповеди. После отказа их выслали из страны. Высочайшим повелением 24 мая 1884 года было закрыто Общество поощрения духовно-нравственного чтения, созданное пашковцами в 1874 году.
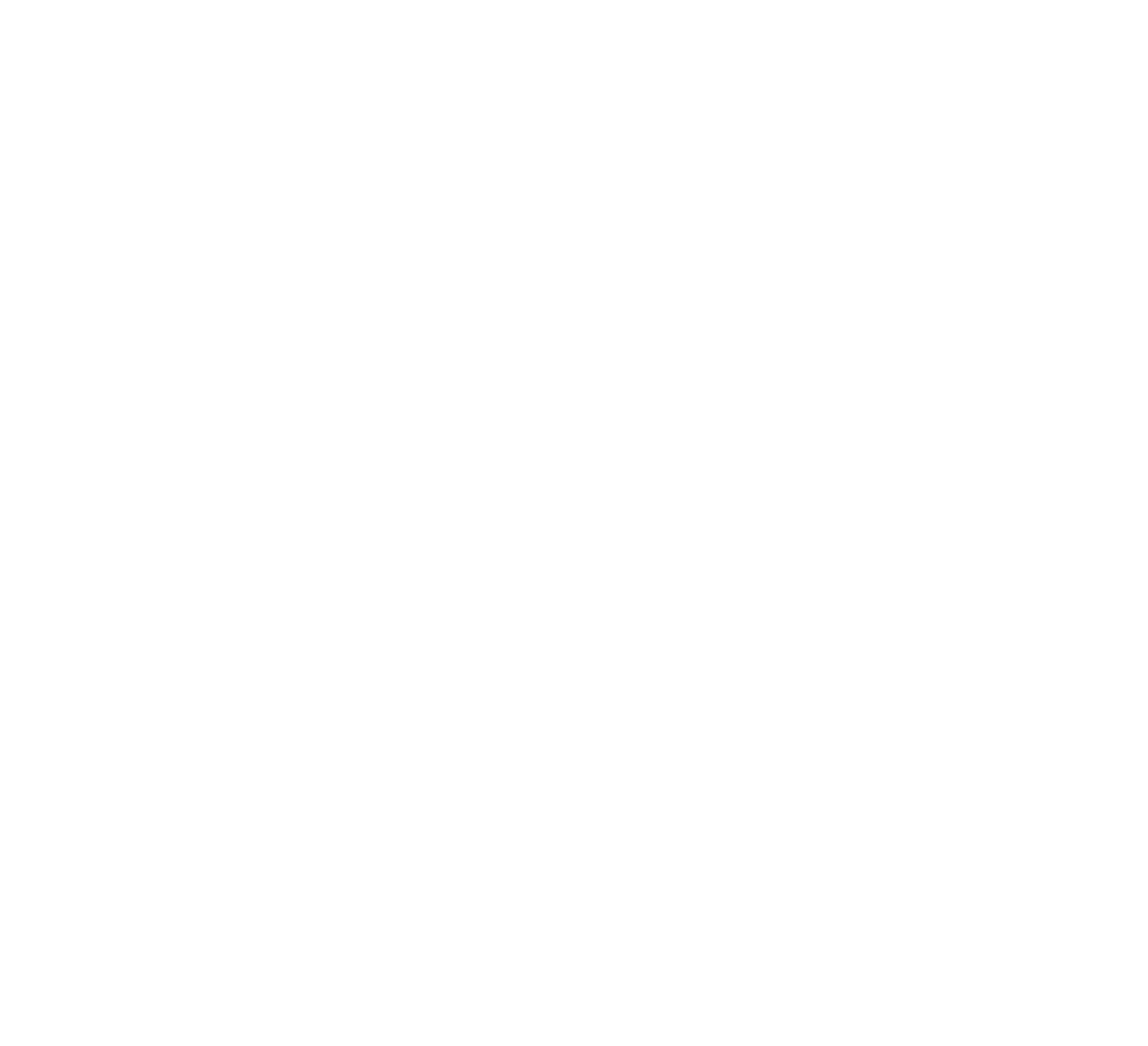
Титульный лист «Крейцеровой сонаты» Л.Н.Толстого, берлинское издание, 1890 г.
Победоносцев писал Александру III: «Письмо Пашкова имею честь возвратить при сем (видимо, Пашков написал письмо Царю, а Царь передал Победоносцеву — А.З.) на случай, если Ваше Величество пожелали бы оставить его в виде курьезного документа. Это нечто вроде одностороннего помешательства, которым отличаются, впрочем, все узкие сектанты. К сожалению, это безумие бывает заразительно. К сожалению, им страдают не только люди глупые или ограниченные, каковы Пашков и Корф, но подвергаются ему и умные, и люди с художественной натурой, как, например, граф Л.Толстой. У Толстого это явление еще поразительнее» [Письма Победоносцева к Александру III. — М; Центрархив, 1925, Т.2. – С.53. Письмо 26 июня 1884 года].
10. Толстовство
Граф Лев Николаевич Толстой, сам того не желая, своими произведениями тоже создаёт новое религиозное учение, — толстовство. Огромное число людей пошли за писателем, когда Толстой в 1882 году опубликовал в журнале «Русская мысль» свою «Исповедь», а после ареста тиража журнала распространил другие произведения, в том числе «Крейцерову сонату», «В чем моя вера», «Новое Евангелие», «Церковь и государство».
Л.Н. Толстой выступил с проповедью ненасилия и всеобщей любви, требовал очистить христианство от «суеверий и обрядности», отделить христианство как учение от официальной церкви как духовной организации.
Граф Лев Николаевич Толстой, сам того не желая, своими произведениями тоже создаёт новое религиозное учение, — толстовство. Огромное число людей пошли за писателем, когда Толстой в 1882 году опубликовал в журнале «Русская мысль» свою «Исповедь», а после ареста тиража журнала распространил другие произведения, в том числе «Крейцерову сонату», «В чем моя вера», «Новое Евангелие», «Церковь и государство».
Л.Н. Толстой выступил с проповедью ненасилия и всеобщей любви, требовал очистить христианство от «суеверий и обрядности», отделить христианство как учение от официальной церкви как духовной организации.
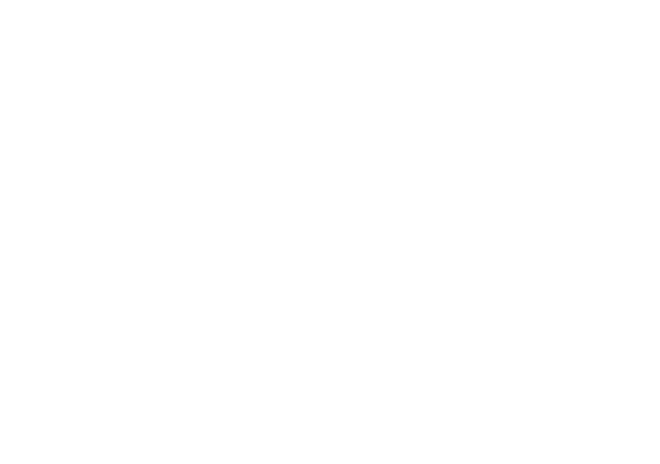
Лев Толстой и Софья Андреевна с родными, Ясная Поляна, 1899 г.
Государственный музей Л.Н.Толстого
Государственный музей Л.Н.Толстого
Толстой считал, что Христос – сын человеческий, который учил только тому, как жить, поэтому Его учение может быть принято всеми народами разных убеждений и вер. Божественное в нем – тот разум, который есть и в людях. Жить по этому разуму – значит жить по-Божьему. Основных правил честной жизни пять: не гневайся, не блуди, не клянись, не противься злу, не убивай другого даже на войне. В этом, считал Толстой, весь смысл жизни и вся сущность христианства, основа человеческого счастья. В своем учении он доходил до отрицания власти, судов, клятв и присяги, ведения всяких войн и всякого насильственного противления злу.
Толстого называли «отступником от веры». На это он отвечал: «То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрекся я не потому, что восстал на Господа, а, напротив, только потому, что всеми силами желал служить лучше Ему. Прежде чем отречься от церкви и единения с народом, которое мне невыразимо дорого, по некоторым признакам усомнившись в правоте церкви, я посвятил несколько лет на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение Церкви: теоретически – я перечитал всё, что мог, об учении Церкви. Изучил и критически разобрал догматическое богословие; практически – строго следовал в продолжении более года всем предписаниям Церкви, соблюдая посты и все церковные службы. И я убедился, что учение Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же – собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающего совершенно весь смысл христианского учения. Отсюда я пришел к выводу, что все православные обряды, которые проводятся священниками и считаются христианским богослужением, – есть не что иное, как различные приемы колдовства, приспособленные ко всем возможным случаям» [архиеп. Иоанн (Шаховской), К истории русской интеллигенции. -Нью-Йорк, 1975. С. 136–137].
Толстого называли «отступником от веры». На это он отвечал: «То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрекся я не потому, что восстал на Господа, а, напротив, только потому, что всеми силами желал служить лучше Ему. Прежде чем отречься от церкви и единения с народом, которое мне невыразимо дорого, по некоторым признакам усомнившись в правоте церкви, я посвятил несколько лет на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение Церкви: теоретически – я перечитал всё, что мог, об учении Церкви. Изучил и критически разобрал догматическое богословие; практически – строго следовал в продолжении более года всем предписаниям Церкви, соблюдая посты и все церковные службы. И я убедился, что учение Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же – собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающего совершенно весь смысл христианского учения. Отсюда я пришел к выводу, что все православные обряды, которые проводятся священниками и считаются христианским богослужением, – есть не что иное, как различные приемы колдовства, приспособленные ко всем возможным случаям» [архиеп. Иоанн (Шаховской), К истории русской интеллигенции. -Нью-Йорк, 1975. С. 136–137].
Толстовцы активно занимались просвещением и распространением взглядов Толстого. Толстовцы Владимир Григорьевич Чертков и Павел Иванович Бирюков основали в 1884 году издательство «Посредник», которое выпускало массовыми тиражами книги для народа: произведения Л. Н. Толстого, Глеба Ивановича Успенского, А. П. Чехова и других писателей, пособия по агрономии, ветеринарии, гигиене. В 1901—1905 в Лондоне толстовцы издавали газету «Свободное слово».
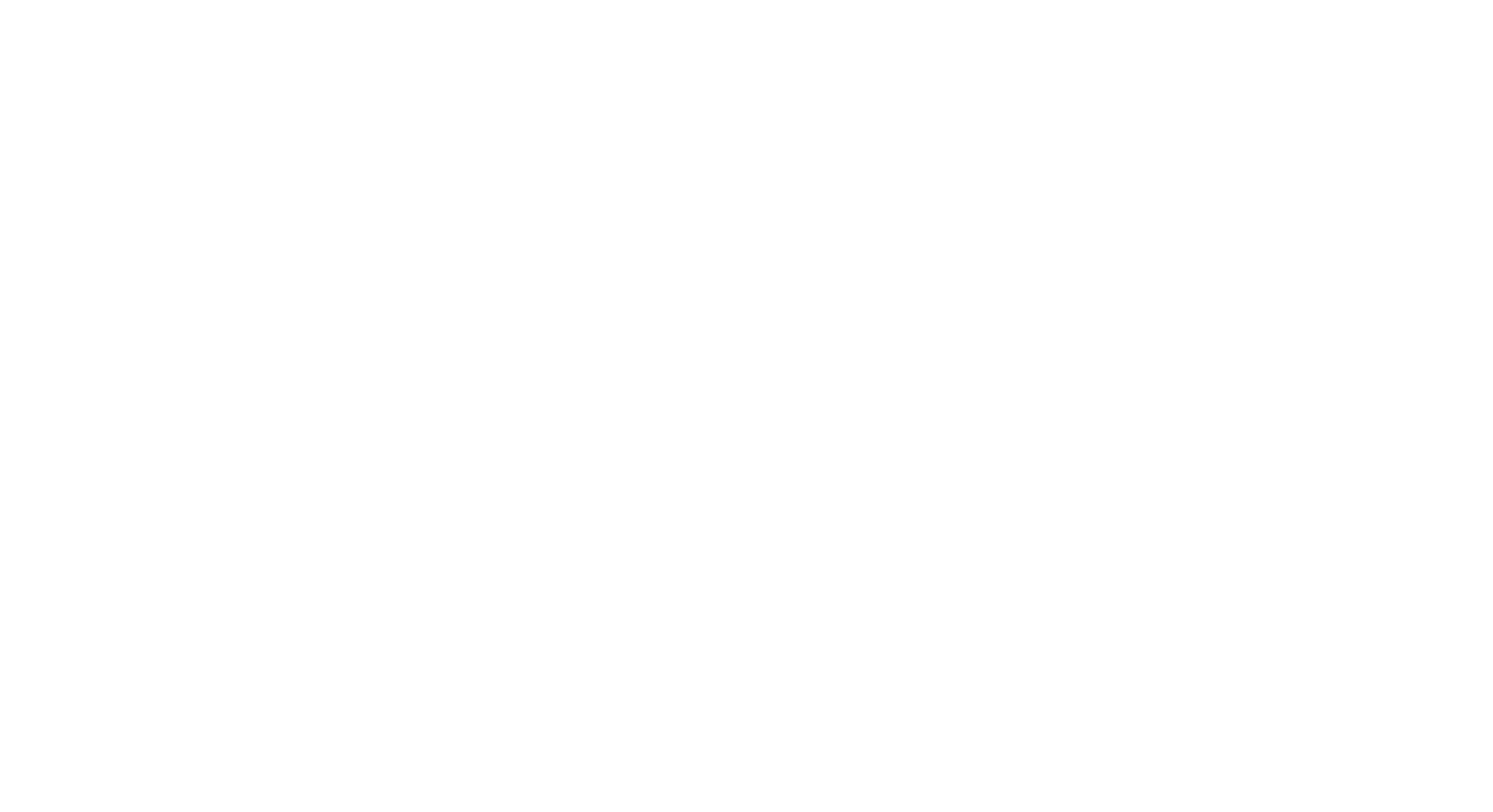
Члены общины толстовцев, первая половина XX в.
В 1886—1896 годах толстовские общины существовали в Самарской, Смоленской, Тверской, Харьковской, Полтавской, Тамбовской, Киевской, Оренбургской, Нижегородской губерниях и на Северном Кавказе. Наибольшего успеха в деле привлечения крестьянства к толстовскому учению добился князь Дмитрий Александрович Хилков. В своем имении в селе Павловка Харьковской губернии к концу XIX века он приобрел, по разным сведениям, от 200 до 327 последователей из крестьян. После высылки Хилкова из имения, подавляющее большинство из них перестали придерживаться толстовских взглядов, но сосланный на Кавказ князь Хилков вместе с другими толстовцами начал успешную пропаганду толстовства среди местных духоборов. В 1897 г. 3-й миссионерский съезд Российской Православной Церкви объявил толстовство «религиозно-социальной сектой». В 1900—1901 годах К. П. Победоносцев в своих отчетах называл толстовство самым опасным врагом Православной Церкви.
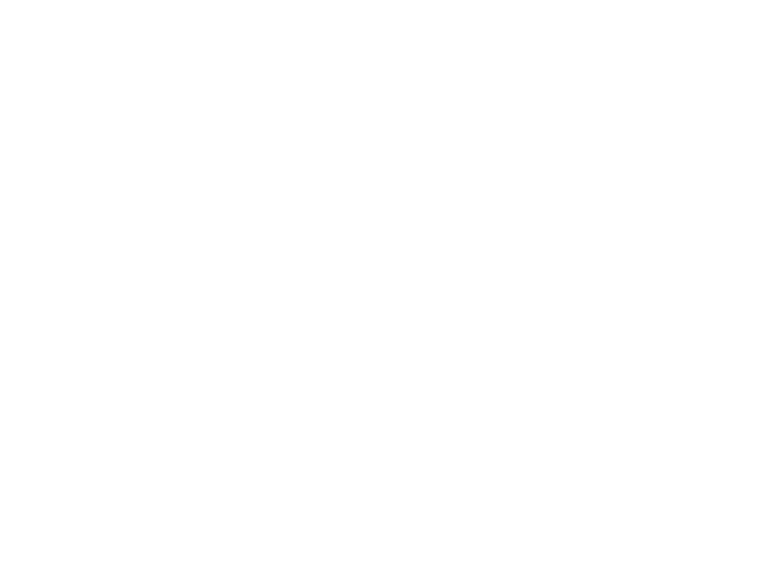
Князь Дмитрий Хилков, фотография 1914 г.
Толстой имел немало последователей не только в России, но и за рубежом. С толкованием его учения выступали Н.Н. Страхов, В.С. Соловьев, Д.С. Мережковский. Последователи Толстого из священных книг признавали только Евангелие, исключая из него сказания о чудесах. Не верили в загробную жизнь и воскресение мертвых, крест называли «виселицей», церковный храм – «хлевом», а священников – «куклами, набитыми соломой». Некоторые опровергали существование самого Бога, говоря, что «Бог – лишь человеческая любовь и совесть, и каждый человек заключает в себе частицу Божества». Отрицали государство, полицию, суд; проповедовали безбрачие и вегетарианство[А.С. Пругавин Неприемлющие мира. Очерки религиозных исканий. – М., 1918].
13 апреля 1891 г Софья Андреевна Толстая была в Аничковом дворце принята Императором. Александр Александрович встретил супругу Льва Толстого очень милостиво словами: «Здравствуйте Ваше сиятельство, графиня» и позволил печатать до того запрещенные Победоносцевым произведения в Полном собрании сочинений писателя. В первую очередь «Крейцерову сонату».
Победоносцев был в ужасе. 1 ноября 1891 года он писал Императору: «Если б я знал заранее, что жена Льва Толстого просит аудиенции у Вашего Величества, я стал бы умолять Вас не принимать ее. Произошло то, чего можно было опасаться. Графиня Толстая вернулась от Вас с мыслью, что муж ее в Вас имеет защиту и оправдание во всем, за что негодуют на него здравомыслящие и благочестивые люди в России. Вы разрешили ей поместить „Крейцерову сонату“ в полном собрании сочинений Толстого. Можно было предвидеть, как они этим разрешением воспользуются... Эту книжку они пустили в продажу отдельно, и вот уже вышло третье отдельное ее издание. Теперь эта книжка в руках и у гимназистов, и у молодых девиц». (Письма Победоносцева к Александру III. — М; Центрархив, 1925, Т.2. - С.251).
13 апреля 1891 г Софья Андреевна Толстая была в Аничковом дворце принята Императором. Александр Александрович встретил супругу Льва Толстого очень милостиво словами: «Здравствуйте Ваше сиятельство, графиня» и позволил печатать до того запрещенные Победоносцевым произведения в Полном собрании сочинений писателя. В первую очередь «Крейцерову сонату».
Победоносцев был в ужасе. 1 ноября 1891 года он писал Императору: «Если б я знал заранее, что жена Льва Толстого просит аудиенции у Вашего Величества, я стал бы умолять Вас не принимать ее. Произошло то, чего можно было опасаться. Графиня Толстая вернулась от Вас с мыслью, что муж ее в Вас имеет защиту и оправдание во всем, за что негодуют на него здравомыслящие и благочестивые люди в России. Вы разрешили ей поместить „Крейцерову сонату“ в полном собрании сочинений Толстого. Можно было предвидеть, как они этим разрешением воспользуются... Эту книжку они пустили в продажу отдельно, и вот уже вышло третье отдельное ее издание. Теперь эта книжка в руках и у гимназистов, и у молодых девиц». (Письма Победоносцева к Александру III. — М; Центрархив, 1925, Т.2. - С.251).
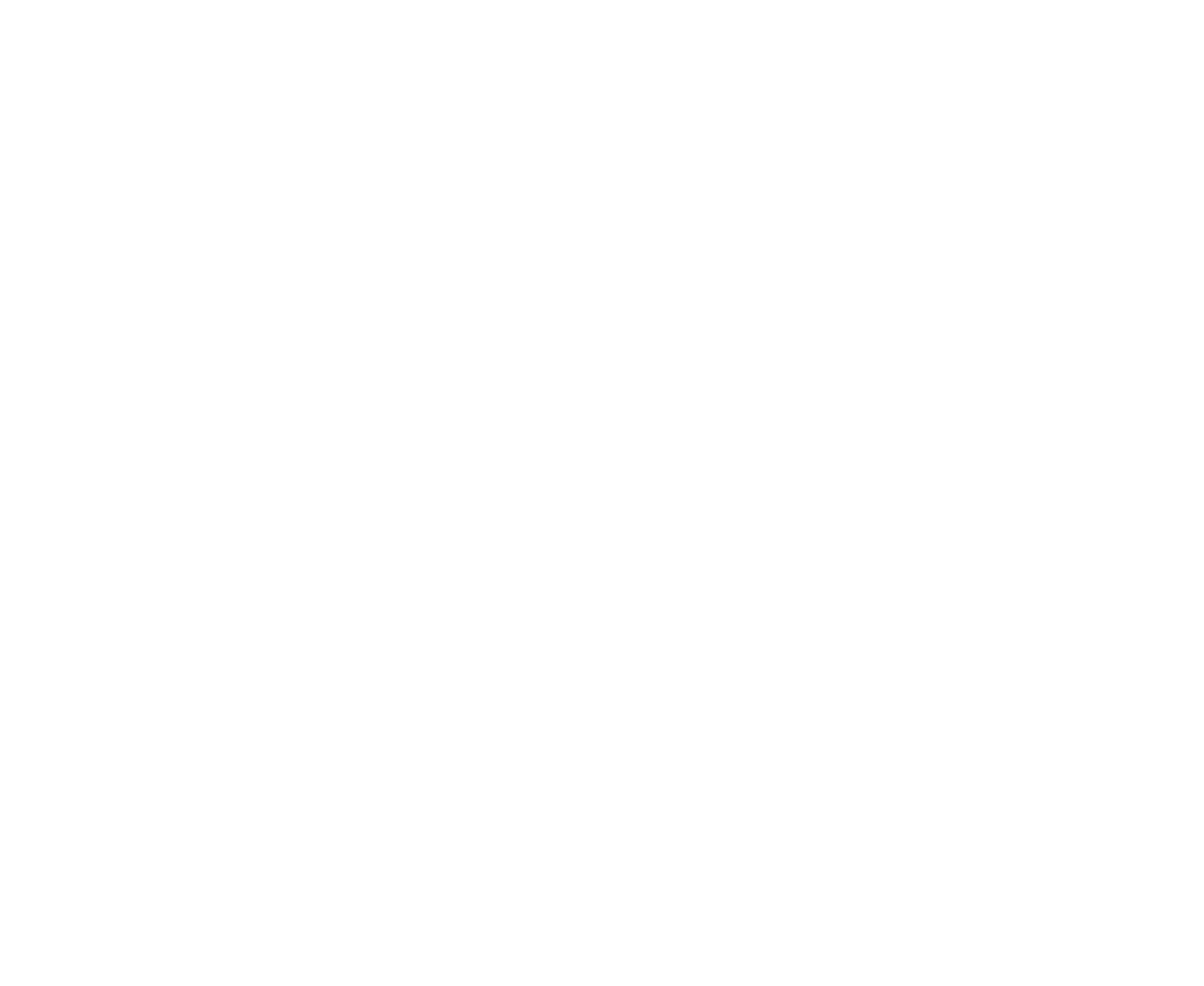
Лев и Софья Толстые в Ясной Поляне. Фотография 1910 г.
В абсолютистской еще России уже сложилось свободное гражданское общество. С одной стороны – это был мир близких связей и почти дружеского общения людей разных взглядов, религиозных и нравственных позиций. С другой – почти всеобщее саботирование решений Победоносцева и иных консерваторов. Даже Александр III проявлял намного больше терпимости чем «Русский Торквемада». Сектантство и Раскол не умалялись, а распространялись по России.
11. Церковь опоздала
На примере русского духовного движения, старообрядчества и рационального сектанства мы видим, что общество жило духовной жизнью, и что Церковь не успевает за ним. Она пытается, часто полицейскими мерами, ограничить эти новые веяния, потому что для духовного воспитания общества у Церкви не хватает сил, умения, да и желания. Даже такой культурный человек, как Победоносцев бессилен побороть самого себя и сказать, что надо действовать с духовным духовно, а не полицейским произволом, арестами, посадками, высылками за границу аристократов. В конце XIX века Русская Церковь потерпела духовное фиаско, несмотря на отдельные положительные явления.
Общество встает не на сторону Победоносцева, а на сторону продолжения, пусть и более осторожного, Великих реформ. Оно саботирует запретительные меры и продолжает поддерживать свободу, в данном случае свободу духовную. Это интересная особенность конца ХIХ века. Контрреформы — не откат назад, как считали и продолжают считать многие историки, — а эпоха продолжения Великих реформ. Контрреформы — только ограничительный клапан, но он постепенно выдавливался, и уже ничего не могло сдержать движения по направлению к свободе.
На примере русского духовного движения, старообрядчества и рационального сектанства мы видим, что общество жило духовной жизнью, и что Церковь не успевает за ним. Она пытается, часто полицейскими мерами, ограничить эти новые веяния, потому что для духовного воспитания общества у Церкви не хватает сил, умения, да и желания. Даже такой культурный человек, как Победоносцев бессилен побороть самого себя и сказать, что надо действовать с духовным духовно, а не полицейским произволом, арестами, посадками, высылками за границу аристократов. В конце XIX века Русская Церковь потерпела духовное фиаско, несмотря на отдельные положительные явления.
Общество встает не на сторону Победоносцева, а на сторону продолжения, пусть и более осторожного, Великих реформ. Оно саботирует запретительные меры и продолжает поддерживать свободу, в данном случае свободу духовную. Это интересная особенность конца ХIХ века. Контрреформы — не откат назад, как считали и продолжают считать многие историки, — а эпоха продолжения Великих реформ. Контрреформы — только ограничительный клапан, но он постепенно выдавливался, и уже ничего не могло сдержать движения по направлению к свободе.